 |
| Svetainės tvarkdarys |
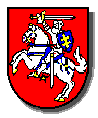 |
Užsiregistravo: 05 Spa 2006 01:16
Pranešimai: 27621
Miestas: Ignalina
|
ГЕОГРАФИЯ ПРОТИВ ИСТОРИИ: БЫЛ ЛИ ВОЗМОЖЕН ТОРГОВЫЙ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»?
http://svom.info/entry/901-geografiya-p ... hZeQCyNhXA
ФЕДОТОВА Полина
Путь «из варяг в греки», балто-днепровский транзит., гидрография Северо-Запада, историческая изменчивость гидрорежима, климатические изменения, торгово-транспортные коммуникации
В составе «Повести временных лет» среди множества ее легендарных сюжетов уникальное место занимает Сказание о хождении апостола Андрея на Русь. Для русской истории оно имеет двойную значимость. В церковном отношении это летописное Сказание начиная с XVI в. служило официальным обоснованием «апостольского» происхождения русского христианства и, тем самым, его независимости как от греческой, так и от римской церкви. Для научной историографии оно служит текстологической базой для целой исторической концепции возникновения древнерусского государства, якобы сложившегося вдоль великого торгового пути «из варяг в греки». Ведь именно в тексте русского Сказания об Андрее содержится единственное свидетельство об этом пути. Сообщение это поистине уникально: ни один другой источник, ни русский, ни иностранный, не содержит никаких известий о его существовании. Даже в самой Повести временных лет оно стоит одиноко, не встречая в дальнейшем изложении никаких упоминаний о столь великом (и по протяженности, и по значимости) варяго-греческом пути.
Даже безусловно убежденные в существовании этого пути историки, как, например, В. А. Брим, вынуждены признать «тот факт, что весь путь из варяг в греки нигде в литературе того времени не описан». Будучи норманистом и искренне полагая, что «главной заинтересованной стороной в этом деле были скандинавы», он с удивлением отмечал, что в отношении этого пути «как раз скандинавские известия отличаются необычайной скудостью» [5. С. 227]. Точнее сказать, что скандинавские источники вообще не знают пути «из варяг в греки», а скудостью отличаются их известия о «восточном пути», о котором они не сообщают ничего конкретного[1].
Несмотря на столь шаткую источниковую базу – по сути, единственное сообщение в составе поздних источников (не ранее XIV в.)[2], – концепция возникновения русского государства вдоль маршрута движения варяжских военно-торговых дружин из Северной Европы в Византию до сих пор господствует в российской и мировой историографии. Особенно настаивают на существовании Балто-Днепровской торговой магистрали в качестве пути «из варяг в греки» представители норманистского лагеря. Для сторонников норманизма это летописное Сказание с подробным описанием пути апостола из греческого Херсонеса по Днепру, Ловати, Ильменю, Волхову и озеру Нево в Варяжское (Балтийское) море служит козырным аргументом в системе доказательств скандинавства варягов и существования давних торгово-экономических и культурных связей между Византией и Скандинавией. Правда, подобная интерпретация летописного материала является произвольным домыслом, поскольку в Повести временных лет ничего не говорится ни о пути в Скандинавию, ни о скандинавском происхождении варягов, а главное – не содержится даже намека на торговый характер пути «из варяг в греки». Историки продолжают упорно игнорировать тот факт, что рассказ об этом пути выступает составной частью религиозного сказания, следовательно, находится с ним в какой-то связи. Но вместо того, чтобы раскрыть эту связь, пути из варяг в греки был произвольно приписан торговый характер, хотя сам источник не дает ни малейших оснований к подобной интерпретации.
Археология против морских викингов
Более того, результаты столетних археологических изысканий с полной определенностью доказали, что предположение о существовании Балто-Днепровского транзитного пути между Северной Европой и Византией – всего лишь одно из громких исторических заблуждений. Об этом еще в 1950 г. было заявлено со страниц советского журнала «Вопросы географии». Один из ведущих советских географов С. В. Бернштейн-Коган на большом археологическом и нумизматическом материале, с привлечением письменных источников убедительно продемонстрировал мифичность такого пути [4. С. 239 - 270].
Письменные источники (ни византийские, ни скандинавские) не содержат никаких данных о скандинавско-византийской торговле; археология прямо опровергает существование таковой. Например, на острове Готланд – крупнейшем центре международной торговли на Балтике – за период VIII – X вв. найдено 67 000 монет. Из них византийских всего 180, тогда как арабских – 23 000, английских – 14 000, германских, фризских, польских – 27 000 и т. д. Крайне редкие находки на территории Скандинавии византийских монет и предметов византийского экспорта говорят об отсутствии налаженных торгово-экономических связей между этими регионами.[3] В Новгороде византийских находок еще меньше, чем на Балтике. Зато их много на юге, в Киево-Черниговской земле.
На этом основании Бернштейн-Коган выделил две торгово-экономические зоны на Руси XI – начала XIII вв.: южную, ориентированную на Византию, и северную, ориентированную на балтийский регион. Киев тяготел к черноморской, а не к балтийской торговле. Новгород, наоборот, был активным участником балтийской торговли, но практически не участвовал в торговом обмене с Византией. Граница между этими торгово-экономическими зонами проходила между Киевом и Смоленском. Скандинавия же вообще не была реальным агентом в византийской торговле, так как ей нечего было предложить на византийском рынке, а предметы византийского производства попадали туда главным образом не через Русь, а через Западную Европу.
Автор подкреплял свои доводы еще одним веским географическим аргументом: маршрут с Балтики от устья Невы до верховьев Каспли (через Ладогу, Волхов, Ловать и двойной волок из Ловати в Западную Двину и из Двины через Касплю в Днепр) составляет 1 400 км. По Западной Двине от ее устья до верховьев Каспли – всего 820 км. От Готланда до устья Западной Двины морем ближе, чем до устья Невы. Поэтому трудно думать, чтобы варяги (под которыми автор традиционно понимает скандинавов) избирали более длинный путь, сопряженный с двумя волоками, вместо более короткого с одним. Поэтому «варяжским» путем мог быть только путь по Западной Двине, а дорога с Днепра через Ловать имела исключительно местное значение и использовалась преимущественно зимой. Итоговый вывод автора бесспорен: ни в торговом, ни в военно-политическом отношении транзитного балто-днепровского пути из Скандинавии через Неву и Волхов не существовало. Путь между Балтийским и Черным морями не был единой трансконтинентальной магистралью, а распадался на три самостоятельные части: балтийскую (Смоленско-Новгородскую); «греческую», до половины XIII в. обслуживавшую сношения Киева с Византией; и трассу между Киевом и Новгородом, которая использовалась главным образом для внутренней торговли и внутренних сношений.
Аргументы, С. В. Бернштейна-Когана долго оставались под спудом. Большинство историков предпочитало их игнорировать. Но в 90-е годы с критикой традиционных представлений о пути из варяг в греки выступил ряд археологов, прежде всего, Александр Микляев. Оставаясь в рамках традиционного норманизма и не подвергая сомнению скандинавство варягов, Микляев пришел к выводу, что большая часть пути «из варяг в греки» «была сухопутной и эксплуатировалась зимами не столько в качестве международной трансконтинентальной магистрали, сколько в качестве внутреннего пути, связывающего два государствообразующих центра Древней Руси – Новгород и Киев» [21. С. 137]. По сути, через сорок лет он пришел к тем же самым выводам, что и С. В. Бернштейн-Коган в 1950 г., подкрепив их дополнительными аргументами – опытом собственных полевых работ и данными палеогеографии.
Опираясь на результаты археологических исследований, он установил, что во второй половине I тыс. н. э. вода в реках северо-запада стояла как минимум на 3 метра ниже современного.[4] При столь большой разнице не могло быть и речи о плавании по Усвяче (притоке Западной Двины) и особенно Ловати, изобилующей порогами и перекатами и в настоящее время, при более высоком уровне воды. Ученый напомнил, что «никогда никакие суда», даже в обильном водой XVIII веке, не поднимались вверх по Ловати – этому препятствовали пороги, тянущиеся чуть ли не на 200 верст от устья до Великих Лук. Поэтому «скандинавы» не могли плавать из Новгорода в Киев из-за маловодности рек и невозможности прохода даже небольших судов. Добираясь до Ладоги водным путем осенью, при попутных западных ветрах, дующих в это время года, они ждали зимы и дальнейший путь в Новгород и Киев проделывали по зимнику. В подкрепление своей позиции Микляев приводил сведения из скандинавских источников о пребывании скандинавов на Руси, из которых следует, что те добирались из Новгорода в Киев не водным путем, а ездили по Руси зимой [21. С. 136 – 137]. И, хотя Микляев некритически следовал произвольному отождествлению варягов и скандинавов, его хорошо обоснованный вывод о невозможности прямого водного маршрута Ладога – Днепр не оставляет шанса тезису о «великом водном пути» из Балтики в Черное море.
Эпоха викингов – период водного минимума в Евразии
Свои археологические наблюдения А. М. Микляев подкреплял данными палеогеографии. Работами советских климатологов, прежде всего, Арсения Шнитникова, который обобщил огромный материал отечественных и зарубежных исследований, было установлено наличие многовековых циклов изменчивости климата. Каждый цикл (где период теплого и сухого климата сменяется фазой похолодания и повышенной увлажненности) имеет протяженность около 1800 – 1900 лет. При этом теплая фаза имеет длительность около 1200 лет, а фаза похолодания – около 400 лет; между ними имеют место переходные периоды. Последний такой цикл охватывает прошедшие два тысячелетия. На I тыс. н. э. приходится эпоха малого климатического оптимума, которая к середине II тыс. н. э. сменилась похолоданием и резким увеличением увлажненности [35. С. 7, 27]. Иначе говоря, фазе ухудшения климата в период XIII – XVI вв. «предшествовала еще более длительная эпоха с более мягкими климатическим условиями и меньшей общей увлажненностью материков. Ледовитость Северной Атлантики в первом тысячелетии нашей эры и в начале второго была значительно меньшей, чем в последующую эпоху; горные ледники имели меньшие размеры и располагались на больших высотах; увлажненность была меньше; уровень озер низкий и условия климата сухие» [36. С. 182].
В силу того, что эти климатические процессы носили глобальный характер и охватывали целые материки, а не отдельные регионы, низкий уровень стояния воды в водоемах тоже не был локальным явлением, а наблюдался от Балтики до Каспия и Северной Африки. Особенно хорошо изменения уровня воды задокументированы для Каспия, о котором имеются не только археологические данные, но и многочисленные письменные свидетельства. Целый ряд авторов XIV – XV вв. (Казвини, Бакуви, Клавихо и др.) согласно свидетельствуют о затоплении прибрежных территорий Каспийского моря (порта Абесгун в юго-восточной части Каспия, части территории Баку) и катастрофических наводнениях в это время. Эти свидетельства подтверждает археология. Сейчас остатки дорог и зданий в прибрежной полосе Каспия расположены на глубине до 5 м при том, что и современный уровень Каспия весьма низок. Исследования зарубежных гидрологов показали, что и сток крупнейшей африканской реки – Нила – в течение почти всего первого тысячелетия был значительно меньше, чем во втором. Особенно малым сток Нила был в VII – XI вв., с особенно сильным спадом в VIII и начале IX в. [36. С. 134 – 136, 181].
А.В. Шнитников построил диаграмму, отражающую колебания водности и суровости зим с VIII по XX вв. на территории Евразии. Она показывает, что пик многоводности и суровости зим приходится на XV век, который по этим показателям значительно отклоняется от других – как предшествующих, так и последующих. Нарастание увлажненности наблюдается уже с середины Х в., но прерывается спадами, а с середины XIII в. эти явления резко нарастают, достигая пика к середине XV в. Затем кривая водности идет резко вниз, хотя и превышает показатели не только VIII – X, но и XI – XII веков [36. С. 138 - 139]. Следовательно, самым холодным и влажным за истекшие два тысячелетия был период XIV – XVI вв., а наиболее сухой и теплый период водного минимума падает на «эпоху викингов» VIII – X вв.
Таким образом, пик малого климатического оптимума (так называемого Архызского перерыва влажности и оледенения) пришелся на начало средних веков. В это время произошло смещение ландшафтных зон на 200 – 300 км к северу от современного, что повлекло передвижение населения на север. Пониженная увлажненность привела к усыханию болот, уменьшению стока рек и понижению уровня озер. Изучение состояния болот также показало, что сухой период на территории от Балтики до Москвы приходится на II – XII вв. н. э. После 1200 г. в Европе началось постепенное похолодание и переход от климатического оптимума к малому ледниковому периоду. Многие поселения, размещенные в малом климатическом оптимуме на первой надпойменной террасе (сейчас это пойма рек) с XIII в. стали подтопляться и впоследствии были перекрыты мощными слоями аллювиальных отложений. Населению пришлось перейти на более высокие места или на водоразделы рек [26. С. 71 – 79].
Историческому минимуму воды в Каспии во второй половине I тыс. н. э. соответствовал и пониженный сток питающих его рек, прежде всего, Волги. Археолог И. В. Дубов отмечал, что «современное состояние Волги существенно отличается от того, что было в древности». Уровень воды в Волге в эпоху раннего средневековья был ниже, чем в последующий период. По этой причине условия судоходства по Волге были крайне усложненными из-за низкого уровня воды и наличия многочисленных порогов, отмелей и перекатов. Тогда в большей мере, чем позднее, играли роль и сезонные колебания уровня воды (высокого во время весеннего половодья и почти до полного обмеления летом). Только на территории современной Ярославской области вплоть до недавнего времени на Волге насчитывалось более восьми мелей. А выше по Волге условия для судоходства были еще сложнее [9. С. 17 – 18, 22 - 23]. По причине опасных условий навигации отрезок Волги от Ярославля до устья Оки практически не использовался, и торговый маршрут с Верхней Волги до Оки пролегал по рекам и озерам Волго-Окского междуречья [9. С. 115 - 119][5].
Пшеница против норманнов
Наблюдения археологов и выводы климатологов подкрепляются данными палеоботаники. Археологическое изучение растительных остатков культурной флоры на поселениях Северо-Запада, прежде всего, Старой Ладоги и Приильменья, обнаружило факты, повергшие первых исследователей в изумление. Доминирующей злаковой культурой в ранних слоях Старой Ладоги (VIII в.) оказалась пшеница-двузернянка (полба), обнаруженная также и на ряде других поселений VIII – X вв. (городище Камно под Псковом, городище Георгий под Новгородом, селище Бережок в среднем течении Мсты) [13. 312 – 313; 15. 17, 72; 3. С. 197 – 198, 203 – 204]. В первую тройку культурных злаков на археологических памятниках региона в VIII – X вв. входили также ячмень и просо. При этом на ряде поселений основную массу посевов занимал ячмень, а на ряде других – просо, которое играло значительную роль в земледелии новгородских словен вплоть до XII века. Посевы проса в IX – X вв. были господствующими в Старой Ладоге [27. С. 46; 13. С. 313 – 314], на ряде поселений северо-западного Приильменья[6] а с Х в. в Новгороде [13. С. 321 – 322]. Если присутствие ячменя было для историков ожидаемым, то наличие проса и полбы ставило их в тупик. Ячмень – наиболее устойчивая к низким температурам зерновая культура, которая чаще всего и возделывалась вблизи северной границы земледелия. На одинаковых с ячменем широтах выращивали также овес и озимую рожь [10. С. 52]. Однако картина раннего земледелия на северо-западе оказалась нетипичной для данных широт.
Неожиданность для исследователей заключалась в наличии проса и полбы. Обе культуры относятся к теплолюбивым растениям, характерным для южных областей и совершенно чуждым климатическим условиям северной лесной зоны. Они устойчивы к засухе, но требовательны к теплу.[7] Что касается традиционных для северных регионов ржи и овса, то до X – XI вв. в качестве самостоятельных посевов на поселениях Северо-Запада и Восточной Прибалтики они не встречаются. В незначительном количестве они присутствуют в растительных остатках в качестве засорителей других культур (яровая рожь – как засоритель ячменя, овес – как засоритель полбы) [13. С. 314; 15. С. 19 – 20][8].
Но на протяжении XII в. в номенклатуре возделываемых злаков происходят значительные изменения. Рожь выходит на первый план, вытесняя просо, а в XIII – XV вв. становится доминирующей культурой для всей лесной зоны Руси – от Москвы на востоке, до Новгорода, Пскова и Гродно на западе, составляя до 80% всех зерновых остатков [13. С. 324–326, 330–336; 15. 8, 23; 3. 195]. Столь разительные изменения в составе выращиваемых злаков и переход в XIII вв. от теплолюбивых к морозоустойчивым культурам (рожь переносит морозы до минус 20 – 35 градусов) исследователи объясняли различным образом.
В.А. Петров, первым изучавший культурную флору староладожского поселения, отказывался видеть причину исчезновения проса в ухудшении климата и объяснял этот факт изменением пищевого рациона населения [27. С. 46]. А.В. Кирьянов связывал радикальную смену злаковых культур в северо-западном регионе с изменениями в системе земледелия – переходом от подсеки к паровой системе (двуполью и трехполью), которая требовала озимой ржи как необходимого звена в севообороте [13. С. 336]. Н.А. Кирьянова объясняла вытеснение полбы меньшей продуктивностью этого вида пшеницы по сравнению с другими, в частности, с мягкой пшеницей, а исчезновение проса – его невызреванием в более холодные годы (что уже предполагало признание климатических изменений) [15. С. 17 – 18]. И только А. Альслебен, объясняя доминирование проса на городище Георгий, вскользь вынуждена была признать, что главную роль в этом играл климатический фактор: «Очевидно, летом в районе Ильменя было достаточно жарко» [3. С. 195][9].
Доминирование теплолюбивых злаков на поселениях Приильменья и Приладожья конца I – начала II тыс. н. э. свидетельствует не только о более сухом и теплом климате. Наличие пшеницы-двузернянки в самых ранних слоях Старой Ладоги рушит и представление о Ладоге как скандинавском поселении. Как отмечал М. М. Якубцинер, впервые выявивший наличие полбы на Волхове в VIII в., эта находка наносит новый удар «норманнской» теории. Дело в том, что культура полбы ни в древний период, ни в настоящее время не известна ни в Финляндии, ни в соседних с ней скандинавских странах. Сходство же древнеладожской полбы с поволжской (резко отличной от западноевропейской) исключает также версию о заимствовании этой культуры из Германии [38. С. 21]. Следовательно, ни скандинавы-норманны, ни фризы с побережья северной Германии не могли быть основателями поселения в устье Волхова. Исследователи полагают, что в Старую Ладогу полба была принесена из Среднего Поволжья, который с древности являлся главным очагом возделывания этой культуры на территории Восточной Европы [38. С. 21; 14. С. 284].
Таким образом, вся совокупность известных фактов свидетельствует, что климат в северо-западном регионе и во всей лесной зоне Восточной Европы во второй половине I – начале II тыс. н. э. был более жарким и сухим. Это подтверждается не только номенклатурой возделываемых в этот период теплолюбивых и засухоустойчивых злаков, таких, как просо и полба, исчезнувших после похолодания XIII в., но и более низким расположением ряда поселений и могильников этого периода по отношению к современному уровню воды. Не только А.М. Микляев, но и новгородские археологи столкнулись с тем же явлением: ряд приильменских поселений, в IX – XI вв. расположенных на берегу озера, ныне находятся под водой, ниже современного уреза воды [24. С. 122]. Но, если уровень озера Ильмень был на несколько метров ниже современного, значит, ниже был и уровень воды в Волхове. Это подтверждают и раскопки в Старой Ладоге, где археологи зафиксировали затопление ряда археологических объектов IX – X вв. в более позднее время[10]. Эти факты позволяют заключить, что гидрография региона претерпела значительные изменения, и уровень воды в древнерусский период как в окрестностях Старой Ладоги, так и во всем Поволховье был значительно ниже, чем в настоящее время. Это обстоятельство ставит под сомнение возможность преодоления в период водного минимума VIII – XI вв. двух зон порогов на Волхове (11-ти километровых Гостинопольских и 6-ти километровых Пчевских), которые были трудно проходимы даже в многоводные периоды XIII – XV и XVII – XVIII вв.[11].
На материале днепро-двинского региона к аналогичным результатам пришли и смоленские историки. Изучая трассу предполагаемого пути Днепр – Западная Двина – Ловать, они зафиксировали низкое расположение целого ряда курганов и сопок по сравнению с современным уровнем воды. В весенние половодья они затапливаются чуть ли не целиком, а в дождливые годы в течение всего лета оказываются под водой. На этом основании они поддержали версию А.М. Микляева о возможности только зимнего передвижения «скандинавов» по этому отрезку пути [33][12].
Зимний путь: свидетельства источников.
О зимнем передвижении по территории Руси свидетельствуют прежде всего сами скандинавские саги. Так, в широко известном сборнике исландских саг «Хеймскрингла» («Круг Земной») Снорри Стурлсона одно из центральных мест занимают сюжеты, связанные с норвежским конунгом Олафом Святым. Рассказывая о возвращении Олафа из Новгорода, где изгнанный из Норвегии король нашел себе временный приют у русского князя Ярослава[13], Снорри пишет: «Сразу же после йоля [скандинавское название рождества] конунг стал собираться в путь. Ярицлейв конунг снабдил всех лошадьми и всем необходимым снаряжением… Олав конунг добрался зимой до самого моря, а когда наступила весна и сошел лед, его люди стали снаряжать корабль к плаванию». Комментируя этот отрывок, А. М. Микляев отмечал, что по тексту неизвестно, куда именно отправился Олаф с дружиной, Но важен сам факт, что зимой 1029 года скандинавы добирались из Новгорода «до моря» на лошадях [21. С. 137].
После гибели Олафа (в 1030 г.) его малолетний сын Магнус нашел прибежище у своей тетки Ингигерд в том же Новгороде. Через пять лет норвежские ярлы решили пригласить Магнуса на норвежский престол. Рассказ об этом посольстве имеется у Снорри и в «Саге об оркнейцах», которая сообщает географические подробности путешествия послов. «Когда они, Эйнар Брюхотряс и Кальв, сын Арни, приехали на восток в Гардарики, встретил их Рагнвальд в Альдейгьюборге… После этого нанимают они лошадей в Альдейгьюборге и едут вверх в Хольмгард, и приходят там к конунгу Ярицлейву…. Кальв и его люди пробыли в Хольмгарде, пока не прошел йоль. Отправились тогда вниз в Альдейгьюборг и приобрели там себе корабли; отправились с востока, как только весной сошел лед» [8. С. 87]. Из этого отрывка следует, что норвежские послы в 1035 – 1036 гг. от Ладоги до Новгорода добирались не по Волхову на кораблях, а посуху на лошадях, а после рождества по зимнику вернулись обратно. И только в Ладоге они приобрели корабли, чтобы весной отплыть в обратный путь. Аналогичный, только более короткий рассказ, содержится у Снорри: «Магнус, сын Олава, начал после йоля свою поездку из Хольмгарда вниз в Алдейгьюборг. Стали они снаряжать корабли, когда весной сошел лед» [8. С. 78].
Рассказывая о женитьбе младшего брата Олафа Святого – Харальда Гардрада, будущего короля Норвегии, на дочери Ярослава Елизавете, Снорри сообщает, что тот вернулся на Русь из Миклагарда (Константинополя) с большим количеством золота и «поехал по всему Восточному государству… прибыл в Хольмгард… Той зимой выдал конунг Ярицлейв свою дочь за Харальда… А весной собрался он в свой путь из Хольмгарда и отправился весной в Альдейгьюборг, взял себе там корабль и поплыл с востока» [8. С. 81]. Ярослав выдал свою дочь Елизавету за Харальда зимой 1043/1044 г. Из текста ясно, что на корабль молодожены сели только в Ладоге, до которой добирались посуху, так же как и все путешествие Харальда по Руси было сухопутным: «поехал по всему Восточному государству». Таким образом, исторические саги не содержат известий о водных маршрутах скандинавских дружин или купцов по территории Руси, зато там есть сведения о зимних поездках скандинавов по Руси.
Арабские авторы Х в., описывая торговые экспедиции волжских булгар на север, тоже фиксировали их исключительно зимний характер: «булгары везут в страну вису и йура товары на санях, которые тащат собаки по сугробам снега, сами люди передвигаются на лыжах» [11. С. 29]. Стало быть, волжские булгары тоже отравлялись в торговые предприятия зимой по снегу, а не летом по воде. Нет оснований считать, что на остальной части Восточной Европы, в аналогичных климато-географических условиях, дело обстояло иначе. О зимнем передвижении княжеской дружины по территории славянских племен свидетельствует и византийский император Константин Багрянородный. В его широко известном рассказе о полюдье русских князей говорится, что русы отправляются в полюдье с наступлением ноября (то есть с установлением зимнего пути) и возвращаются в Киев в апреле, когда растает лед на Днепре (видимо, по весеннему половодью). «Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия… Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав» [16. С. 50].
Такой порядок сохранялся и в конце XII в., как следует из одного беглого упоминания в Лаврентьевской летописи о Всеволоде Большое Гнездо, который был в полюдье, в окрестностях Ростова и Переяславля Залесского, в феврале 1190 г.[14] Из Поучения Владимира Мономаха тоже следует, что его походы происходили преимущественно зимой. По крайней мере, в рассказе о своих походах Мономах неоднократно упоминает зимние кампании: «А в ту зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я, идя с черниговцами и со своими половцами, на Десне взяли в плен князей Асадука и Саука… А в Вятичскую землю ходили подряд две зимы на Ходоту и на сына его и к Корьдну ходили первую зиму. … В ту зиму ходили к Ярополку на сбор в Броды и дружбу великую заключили. …И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходили к Смоленску. …И на зиму в Смоленск пошел; из Смоленска после Пасхи вышел». После победы над половцами Боняка, «князей захватили лучших, и по Рождестве заключили мир с Аепою, и, взяв у него дочь, пошли к Смоленску. И потом пошел к Ростову» [28. С. 467 – 469][15]. Общеизвестно, что монголы тоже совершали свои походы на Русь исключительно в зимнее время: они начинались в ноябре, с наступлением ледостава, и заканчивались ранней весной.
Таким образом, столь разные источники, как скандинавские саги, арабские географические сочинения, наставления сыновьям византийских императоров и русских князей, летописные сведения согласно указывают, что в лесной зоне Восточной Европы передвижения на большие расстояния совершались, как правило, зимой. На основании этих данных даже те исследователи, которые не сомневались в существовании водного пути из Балтики в Черное море, вынуждены были признать, что «зимний путь был наиболее удобным и явно предпочитался» [6. С. 306]. Поэтому логично предположить, что в древности торговые трассы в северной, лесной зоне Восточной Европы по причине маловодности и труднопроходимости рек вообще использовались преимущественно зимой – по замерзшим руслам рек. В связи с этим обращают внимание многочисленные находки ледоходных шипов на местах расположения восточноевропейских эмпориев, таких как Гнездово, Рюриково городище или Тимерево.
Аргумент «ad practicum»
Итак, археологические, географические и палеоботанические данные неопровержимо доказывают, что так называемая «эпоха викингов» VIII – X вв. была для Восточной Европы периодом водного минимума, когда уровень вод в северном полушарии от Балтики до Каспия был значительно ниже современного. Это ставит под сомнение возможность свободного водного сообщения по Волхову и делает невозможным водное плавание от устья Ловати до Днепра, то есть, по крайней мере, от Новгорода до Смоленска[16]. Даже в настоящее время, при более высоком уровне воды, все попытки пройти этот путь по рекам окончились неудачей.
Это доказали предпринятые в постсоветское время эксперименты сторонников существования скандинавско-византийской торговли. На сокрушительные аргументы географов и археологов представители норманистского лагеря решили отвечать практически, продемонстрировав возможность пройти указанным в летописи водным путем. С 1986 по 2001 гг. было организовано пять экспедиций: четыре по Неве через Волхов и Ловать до Днепра и Черного моря и одна от Рижского залива по Западной Двине.[17] Относительно поставленных целей все они закончились полным провалом. Отрезок водного маршрута от Ловати до бассейна Двины для всех четырех экспедиций оказался совершенно непроходимым. Суда от Ловати до Днепра пришлось тащить от озера к озеру армейскими вездеходами либо везти автотранспортом. Даже двинский путь оказался непроходим по воде: судно, построенное по образцу морских кораблей викингов, не смогло преодолеть речных мелей, и от Даугавпилса (250 км от Риги вверх по Двине) на Днепр его пришлось везти.[18]
Особенно показательна экспедиция на судне «Айфур» с экипажем в 10 человек, чьи параметры (длина 9 м и ширина 2,2 м) были рассчитаны на передвижение по небольшим рекам. Судно было построено по скандинавской технологии: с клинкерной обшивкой и килем. Однако при прохождении порогов в среднем течении Ловати киль у судна был сломан. Остальной отрезок пути по Ловати (300 км из 500) и волок в приток Западной Двины р. Усвячу судно не проходило, а было перевезено автотранспортом. Второй волок между Двиной и Днепром протяженностью 65 км судно транспортировали по шоссе на колесной тележке, причем без снаряжения и продуктов, которые тоже везли автотранспортом [31. С. 300 – 301; 18. С. 388]. Даже днепровский маршрут (несмотря на отсутствие порогов на реке в настоящее время) оказался непосильным для шведского судна: от г. Светлогорска до Херсона вниз по течению Днепра судно периодически шло с использованием буксира из-за сильного встречного ветра. Чтобы как-то согласовать эти неутешительные результаты с догмой, участник экспедиции петербургский археолог П. Е. Сорокин выдвинул предположение, что скандинавы путешествовали в два этапа: сначала из Средней Швеции в Новгород, а на следующий год по весеннему половодью в Киев [31. С. 302 – 303]. Тем самым он вернулся к выводу С. В. Бернштейна-Когана о поэтапном преодолении скандинавами маршрута в Византию: сначала в Новгород, потом из Новгорода в Киев на службу русским князьям и лишь затем некоторые отправлялись в Византию.
Таким образом, экспедиции экспериментально подтвердили то, что уже было доказано совместными усилиями географов и археологов: никакого транзитного водного пути между Балтикой и Черным морем по трассе Ладога – Днепр не существовало. Торгово-транспортная магистраль между Киевом и Новгородом использовалась для местных нужд и внутренней торговли и преимущественно в зимнее время, что подтверждается малочисленностью византийских вещей в Новгороде и отсутствием кладов на всем протяжении Ловати (кроме Городка на Ловати, т. е. Великих Лук). И археологически, и экспериментально существование вымышленного историками балто-днепровского транзита из Скандинавии в Византию через Русь следует считать опровергнутым. Но исторические заблуждения живучи, и попытки оправдать обанкротившийся вымысел продолжаются.
Оковский лес – препятствие или территория транзита?
В поисках доказательной базы для пути «из варяг в греки» один из ярых его адептов, известный специалист в области полоцко-смоленских древностей Л.В. Алексеев предпринял попытку опереться непосредственно на тот текст, где содержится рассказ об этом пути – летописное Сказание об Андрее. Для этой цели он использовал упомянутый в нем Оковский лес. Свою мысль об Оковском лесе (лесном массиве на днепро-двинско-волжском водоразделе в южной части Валдайской возвышенности) как составной части скандинаво-греческого транзитного пути он настойчиво проводил во всех своих публикациях. В первой посвященной доказательству этого тезиса статье он объявил регион верхнего Поднепровья и Подвинья территорией, «где проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки»», движение по которому началось в VIII – IX вв., а расцвет, судя по нумизматическим данным, относится к Х – началу XI в. [2. С. 9]. А в своей итоговой монографии он относил Оковский лес к северной части этого пути, называя его «главнейшим» (по сравнению с Волжским) [1. С. 43, 49][19].
Мало того, что «знаменитым» этот путь стал среди сочинивших его историков, в то время как ни один письменный источник – ни русский, ни иностранный – не содержит никаких свидетельств о существовании такого «торгового» пути. Но и приводимый самим Л. В. Алексеевым археологический и топонимический материал опровергает его допущения.
В районе верхнего Подвинья и Поднепровья, в границах летописного Оковского леса, Алексеев выявил шесть волоков, рассматривая их в качестве доказательства существования торгового пути из Скандинавии в Византию. По его словам, славяне-кривичи, проникнув вглубь Оковского леса, «основали здесь по меньшей мере 6 волоков, которые обеспечивали бесперебойную связь между реками Черноморского, Балтийского и Каспийского бассейнов» [2. С. 11]. Однако приводимая автором карта этих волоков дает совершенно иную картину [2. С. 7; 1. С. 9].
Во-первых, все волоки располагались по окраинам этого лесного массива, а не в глубине его, огибая его с севера и юго-востока.
1. На юго-восточной окраине – волок р. Днепр – р. Вазуза (правый приток Волги), который маркирует деревня Волочек в верховьях Днепра. 2. На северо-востоке – волок р. Межа (левый приток Западной Двины) – р. Молодой Туд (правый приток Волги). Этот волок из волжской в двинскую систему маркирует деревня Перевоз. 3. На северной окраине Оковского леса – сразу три волока. С верховьев Волги в верховья Западной Двины – волок из оз. Пено (волжской системы) в озеро Охват (двинской системы), отмеченный деревней Волок. 4. Севернее его расположен волок р. Куда (втекающая в оз. Пено) – р. Пола (правый приток Ловати), отмеченный деревней Переволочье. 5. Юго-западнее Перволочья – еще одна деревня Волок на волоке из Западной Двины в р. Полу. 6. На северо-западной окраине речного водораздела – еще одна деревня Волок на волоке р. Торопа (правый приток Западной Двины) – р. Сережа (правый приток Ловати) [2. С. 9].
Из приведенного материала следует, что пять из этих шести волоков обеспечивали связь волжской системы с днепровской (1), двинской (2) и ильменской (2), а один (р. Торопа – р. Сережа) – двинской системы с ильменской. Но в районе Оковского леса нет ни одного волока из Днепра в Западную Двину. Эти волоки расположены южнее, у Смоленска, уже за пределами Оковского леса. Главный волок шел от Смоленска на северо-запад, то есть опять-таки в обход Оковского леса. Более того, как раз водораздел Днепра и Западной Двины, судя по отмеченным на карте сгусткам древнерусских поселений, был наименее заселенным, практически безлюдным. Сгустки смоленских поселений (поднепровских и придвинских) расположены южнее, почти смыкаясь между собой в районе Вержавска.
Это значит, что Оковский лес не играл роли торгового транзита в днепро-двинских транспортных коммуникациях и никак не мог обеспечивать «бесперебойную связь» между Черноморским и Балтийским бассейнами. Он не только не имел ни одного волока из Днепра в Западную Двину, но и был почти безлюдным именно на водоразделе в верховьях этих рек. Следовательно, торговый путь «из варяг в греки» (даже если бы таковой существовал) в районе Оковского леса проходить не мог. Зато здесь, на центральном водоразделе Днепра, Волги и Западной Двины, явно огибая непроходимый в те времена водораздельный лесной массив, проходили волоки из волжской системы на юг, север и запад Русской равнины. Что говорит об основном и главнейшем торговом пути – Волжском, который связывал не Черноморский, а Каспийский регион с Восточной, Центральной и Северной Европой. Таким образом, попытка связать путь «из варяг в греки» с летописным Оковским лесом закончилась полным провалом.
Накопленный археологический материал позволяет утверждать, что картина торгово-транспортных коммуникаций на территории Восточной Европы и Древней Руси была намного сложнее, динамичнее и многообразнее той тощей и одномерной схемы, которую уже двести лет старательно навязывают российскому обществу. В исторической реальности не существовало никакой торговой водно-континентальной магистрали из Скандинавии в Византию через Русь. Этот путь не подкрепляется археологически, совершенно не известен ни одному средневековому источнику и от начала до конца представляет собой вымышленную фикцию историков-норманистов. Что касается известных по древнескандинавским сагам случаев путешествий отдельных представителей скандинавской знати или духовенства в Византию через Русь, то они так и остаются отдельными случаями, к тому же совершавшимися, как справедливо подчеркивал А.М. Микляев, исключительно с разрешения русских властей.[20] Но подобного рода путешествия осуществляли и буддийские паломники из Бурятии или Калмыкии на Тибет, равным образом и тибетские ламы в буддийские области Российской империи. Из чего, однако, не следует, как заметил в свое время Петр Вяземский, чтобы существовал особый «буддийский» или «тибетский» путь между Россией и Тибетом [7. С. 57][21].
Вопрос о торгово-транспортных коммуникациях Восточной Европы в догосударственный период VIII – начала X вв. и в период существования первых государственных образований домонгольского периода – Волжской Булгарии, Русской, Новгородской, Полоцкой и Владимиро-Суздальской земель – требует радикального пересмотра с учетом накопившегося фактического материала. Давно назрела необходимость в серьезном монографическом исследовании этого вопроса, свободном и от слепого доверия к сочинениям средневекового духовенства, и от двухсотлетней нелепости о пути «из варяг в греки» как торговом маршруте из Скандинавии в Византию. Что касается непрекращающихся настойчивых попыток доказать существование придуманного историками скандинаво-греческого пути, то они лишь уводят науку в сторону от изучения реальных торгово-транспортных коммуникаций, проходивших в древности по территории Восточной Европы.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Алексеев Л. В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры: в 2 кн. Кн. 1. М.: Наука, 2006.
Алексеев Л. В. «Оковский лес» Повести временных лет // Культура средневековой Руси. Л.: Наука, 1974.
Альслебен А. Земледелие Новгородской округи в IX – X вв. (археоботанические методы и их применение на городище Георгий) // Древности Поволховья / Под ред. А. Н. Кирпичникова и Е. Н. Носова. СПб., 1997.
Бернштейн-Коган С. В. Путь из варяг в греки // Вопросы географии. ХХ. М., 1950.
Брим В. А. Путь из варяг в греки // Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. М.: Языки славянской культуры, 2002.
Воронин Н. Н. Средства и пути сообщения // История культуры Древней Руси. Домонгольский период. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951.
Вяземский П. П. Ходили ли скандинавские пилигримы на поклонение святым местам через Россию? // Он же. Две статьи. Воронеж, 1893.
Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Тексты. Перевод. Комментарий. / Сост. Г. В. Глазырина и Т. Н. Джаксон. М.: Наука, 1987.
Дубов И. В. Великий Волжский путь. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
Дулов А. В. Географическая среда и история России (конец XV – середина XIX в.). М.: Наука, 1983.
Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX – X вв. Т. 1. М., 1962.
Звягин Ю. Ю. Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории. М.: Вече, 2009.
Кирьянов А. В. История земледелия Новгородской земли Х – XV вв. (По археологическим материалам) // МИА. № 65. М., 1959.
Кирьянов А. В. К вопросу о раннеболгарском земледелии // МИА. № 61. М., 1958.
Кирьянова Н. А. Сельскохозяйственные культуры и системы земледелия в лесной зоне Руси XI – XV вв. М., 1992.
Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991.
Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997.
Лукошков А. В. Истоки и закономерности развития древнерусского судостроения // Скандинавомания и ее небылицы о русской истории. Сб. статей и монографий. М.: Русская панорама, 2105.
Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Скандинавы на Руси и в Византии в Х – XI веках. К истории названия «варяг» // Славяноведение. 1994. № 2.
Микляев А. М. Подводные археологические исследования озера Сенница в 1982-87 гг. // Сообщения государственного Эрмитажа. № 4. Л., 1990.
Микляев А. М. Путь «из Варяг в Греки» (зимняя версия) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. (Тезисы науч. конф.). Новгород, 1992.
Мусин А. Е. Находки херсоно-византийских монет на территории Древней Руси и «путь из варяг в греки» // Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010.
Никитин А. Л. Путь «из варяг в греки» и легенда об апостоле Андрее // Никитин А. Л. Основания русской истории. Мифологемы и факты. М.: АГРАФ, 2001.
Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья (Новые материалы и исследования). СПб, 2005.
Носов Е. Н., Плохов А. В. Новые исследования в Ильменском Поозерье // Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. Сборник научных статей. СПб.: ИИМК РАН, 2002.
Олейников О. М. Климат в районе Верхней Волги в средние века // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 6. Новгород, 1992.
Петров В. А. Растительные остатки из культурного слоя Старой Ладоги (IX – X век) // КСИИМК. Т. XI. М.;Л., 1945.
Поучение Владимира Мономаха // БЛДР. Т. 1. XI – XII вв. СПб.: Наука, 1997.
Семенов П. Географико-статистический словарь Российской империи. Т. 1. СПб., 1863.
Сенковский О. Примечания к Эймундовой саге // Библиотека для Чтения. 1834. Т. 2. Отд. III.
Сорокин П. Е. Некоторые результаты археологических и экспериментальных исследований средневекового судоходства по пути «из варяг в греки» // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010.
Сорокин П. Е. Природные условия и судовое дело Северо-Западной Руси // Древности Поволховья / Под ред. Под ред. А. Н. Кирпичникова и Е. Н. Носова. СПб., 1997.
Сухорученков С., Валуев Д. Сенсация, рожденная в пути. Новая версия о «пути из варяг в греки» // Рабочий путь. 29 ноября 1993 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://viking-nevo.narod.ru/rus/publica ... 993-2.html. (дата обращения 02. 12. 2018).
Федотова П. И. Проблема возникновения Новгорода и варяжская легенда // Свободная мысль. 2017. № 1.
Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности Евразии. Автореферат дисс. … доктора географических наук. Л., 1955.
Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности материков северного полушария // Записки Географического Общества СССР. Т. 16. М.;Л., 1957.
Эверс Г. Предварительные критические исследования для Российской истории. Кн. 1. М., 1826.
Якубцинер М. М. О составе зерновых культур из Старой Ладоги // КСИИМК. Вып. 57. М., 1955.
[1] Брим, как и все норманисты, подменяет вопрос о пути «из варяг в греки» вопросом о контактах скандинавов с Русью, хотя это две отдельные и нигде не пересекающиеся проблемы. Давно установлено, что термин «варяги» появился в скандинавском обиходе не ранее 40-х гг. XI в. Указавший на этот факт переводчик «Саги об Эймунде» Осип Сенковский признавал, что «название Варягов, Варенги, Веринги, Væringjar есть слово, чуждое скандинавскому языку, … и образовалось в Царьграде гораздо прежде появления там первых нордманнов… Ясно, что оно не Скандинавское» [30. С. 50–51]. О невозможности отождествления скандинавов с варягами свидетельствуют не только данные языка, но и скандинавские саги. Еще Г. Эверс заметил, что составители саг отличали варангов/верингов от норманнов-скандинавов. [37. С. 29, 37, прим. 22]. О. Сенковский подтвердил эти наблюдения на примере Эймундовой саги. Он отмечал, что, «к удивлению», слово варяг в Эймундовой саге нигде не встречается и неизвестно самим норвежцам, которые называют себя только нордманнами, но не варягами, хотя, казалось бы, служат русским князьям в качестве наемников. [30. С. 50]. К тем же выводам приходят и современные норманисты. Так, Е. А. Мельникова и В. Я. Петрухин в согласии с предшественниками констатируют, что слово «варяг» «не употребляется в скандинавских письменных источниках для обозначения скандинавов, находящихся или побывавших на Руси», и что «составители саг противопоставляют вэрингов и норманнов» [19. С. 57, 64].
[2] Сказание о хождении апостола Андрея на Русь с описанием пути «из варяг в греки» известно по Начальной летописи и Прологу расширенной редакции. Самый ранний список летописи (Лаврентьевский) датируется 1377 г.; к XIV в. относятся и первые известные списки проложного сказания о хождении Андрея на Русь.
[3] За период от VIII до середины Х в. (до 945 г., то есть за 150 лет) в Швеции зафиксированы находки всего 8 (!) византийских милисиариев. При этом лишь один из них относится к IX в. (остальные более поздние), а две самые ранние монеты (императоров Михаила III и Льва VI) найдены не на территории собственно Швеции, а в могильниках Бирки [22. С. 42]. Однако Бирка, как и Готланд, была международным эмпорием, и этническая принадлежность захороненных там лиц еще нуждается в выяснении. Не исключено, что они не имеют никакого отношения к скандинавам.
[4] Выводы А. М. Микляева опирались на данные археологических раскопок целого ряда древнерусских поселений на берегах озер и рек нынешних Псковской и Новгородской областей. Сейчас эти поселения находятся на 0,8 – 1,2 м под водой, а основания срубов – на глубине около 3 м от современной поверхности воды. По данным подводных археологов, объекты I тыс. н. э., обнаруженные на озерах Латвии и Эстонии, также находятся на глубине до 3 м. Это значит, что уровень воды в водоемах Прибалтики и Северо-Запада в древности был не менее чем на 3 м ниже современного [20. С. 17 – 21; 21. С. 134 – 135].
[5] Очевидно, что, если ярославско-костромское Поволжье представляло опасность для плавания даже плоскодонных русских судов, тем более оно было непроходимо для килевых и тяжелых (с клинкерной обшивкой) скандинавских судов. Вопреки очевидности И.В. Дубов вслед за Т.Арне продолжает видеть в верхневолжских эмпориях скандинавские колонии, хотя и признает, что «скандинавские погребения» составляют лишь 5 % от всех раскопанных за двести лет ярославских курганов.
[6] В частности, эта культура лидировала на городище Георгий. В первую тройку зерновых культур там входили: просо – 28,3 %, ячмень – 19,7 % и пшеница-двузернянка (полба) – 11,8 % [3. С. 203 – 204]. На поселении Прость в Приильменье лидирующий вначале ячмень со временем уступил первое место просу [25. С. 177].
[7] Сумма активных температур, необходимых для вегетации и созревания (учитываются дни в году с температурой выше 10° для данной местности), для ячменя – 1750, для ржи – 1800, пшеницы – 2000, проса – 2300 [15. С. 5].
[8] Зато в большом количестве и многообразии видов в слоях IX – X вв. на поселениях Старой Ладоги, Новгорода и городища Георгий присутствуют сорняки-засорители проса, при полном отсутствии сорняков, характерных для озимой ржи [3. С. 195].
[9] Нежелание советских историков признавать климатический фактор в качестве главной причины происходивших в земледелии и пищевом рационе изменений понятно: они стремились избежать обвинений в «географическом детерминизме». Кроме того, обнаружение факта большей сухости климата и меньшей водности водоемов ставило под удар господствующее в науке представление о наличии водного пути из Балтики в Черное море и, тем самым, всю доктрину норманизма в целом.
[10] Например, ниже современного уровня воды (на 0,8 м) залегает ряд объектов в пойме реки Ладожки; ряд курганов и сопка в урочище Плакун подтопляются во время паводков. [32. С. 48].
[11] И в новое время значительное количество судов терпело здесь крушения – только в течение 16 лет с 1843 по 1859 г. на порогах Волхова погибло 101 плавсредство [29. С. 534].
[12] На чем основана фанатичная убежденность в использовании трассы Ловать – Днепр именно скандинавами, сказать трудно. Однако даже норманисты вынуждены видоизменять свои фантазии, приспосабливая их к фактическому материалу.
[13] Ярослав I и Олаф Норвежский приходились друг другу свояками: они были женаты на дочерях шведского конунга Олафа Шётконунга. Ярослав – на Ингигерд, бывшей невесте Олафа, а сам Олаф – на сводной сестре Ингигерд, Астрид.
[14] Точнее, зимой 1190 года, так как он вернулся из полюдья «на стол свой» в Ростов 25 февраля [17. Стб. 408 – 409].
[15] Даже замысел Поучения, по свидетельству самого Мономаха, пришел ему, когда он, сидя в санях, встречался зимой на Волге с послами своих двоюродных братьев. При этом автор предлагает недоброжелателям смотреть на свое произведение, как на сочиненное от безделья «на дальнем пути»: «Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил» [28. С. 457].
[16] Точнее, если говорить об «эпохе викингов», от Рюрикова городища до Гнездова и Шестовиц, так как Новгород возник только в середине Х в., а Смоленск – в XI в. [34. С. 31 – 48].
[17] В 1986 г. экспедиция «Нево» от Выборга до Одессы на ялах (современных парусно-гребных судах) «Варяг» и «Русь». В 1992 г. из Старой Ладоги в Новгород и Смоленск на яле «Дир» и норвежской лодке «Эрнинге»; в 1992 г. на корабле «Хаворн» (уменьшенной копии драккара) по Западной Двине. В 1994/1996 гг. экспедиция «Хольмгард» на корабле «Айфур», построенном по типу шведских кораблей викингов, в два этапа: в 1994 г. из Центральной Швеции до Новгорода, в 1996 г. – из Новгорода до Херсона. В 2001 г. на ладье «Княгиня Ольга» от Санкт-Петербурга до Киева [12. С. 182–189].
[18] Следует учитывать, что и условия проводившихся экспериментов не были «чистыми». Параметры почти всех кораблей-участников (вес, длина, ширина, осадка) были меньше их реальных аналогов; команды во время прохождения маршрута сменялись; суда шли налегке, без груза – даже личное снаряжение и продукты везли группы обеспечения берегом [12. С. 182 – 189; 23. С. 129].
[19] При этом Алексеев прибегает к обычному для норманистов подлогу, обозначая древнерусские города и местности скандинавскими топонимами, почерпнутыми не из русских, а из скандинавских источников. (См. карту на с. 44, где Ладога – Aldeigiuborg, Новгород – Holmgardr, Киев – Koenugardr, а сама Русь – Gardar). Это все равно, что Данию обозначить на карте по-славянски Доней, Стокгольм – Стекольным, Британию – Вротанией и доказывать на этом основании массовое присутствие славянского населения в Дании, Швеции и Британии.
[20] Точно так же, как в XIII – XV вв. готландские и ганзейские купцы ходили в русские земли не иначе, как в силу договоров с Новгородом и по тем направлениям, которые находились во власти Новгорода.
[21] По справедливому замечанию Вяземского, составление маршрута скандинавов через Висби (на Готланде), Новгород, Смоленск, Чернигов в Киев, далее по Днепру с остановкой на острове св. Георгия, а затем через Варну в Константинополь – не что иное, как «произвольное применение» к скандинавам слов Константина Порфирогенита о русах, отправлявшихся в Константинополь с товарами и невольниками [7. С. 35].
Kęstutis Čeponis
Во первых, автор этой статьи - ярая антинорманистка - все ее статьи на эту тему.
Во вторых, если она что-то и показала, то только то, что водный путь "из варягов в греки" мог быть и зимним путем.
Свои ладьи варяги вполне могли перетаскивать по основному волоку зимой по льду и снегу. В принципе это вполне реально - тогда путешествия продолжались даже по несколько лет.
**************************************
ФЕДОТОВА Полина Игоревна – доцент кафедры истории Отечества, науки и культуры Санкт-Петербургского государственного Технологического института (Технического Университета), г. Санкт-Петербург, кандидат философских наук
http://svom.info/authors/fedotova-polina/
Pro et contra/За и против
КЕЛЬТСКИЕ КОРНИ ВАРЯЖСКОЙ ЛЕГЕНДЫ
ФЕДОТОВА Полина
Рассмотрен вопрос о культурных истоках летописного рассказа о призвании варягов. Отвергнута гипотеза скандинавских источников варяжского сказания, поскольку для него так и не было найдено скандинавских параллелей. Зафиксированная в варяжской легенде практика приглашения князей «со стороны» бытовала в среде кельтов и балтийских славян. С привлечением сведений Иоакимовской летописи указан целый ряд схождений летописного рассказа о призвании варяжских князей с кельтскими обычаями. Показано кельтское происхождение имен варяжских князей – Рюрика, Синеуса и Трувора. Сделан вывод о принадлежности варяжского сказания кельтской культурной традиции.
Варяжская легенда, имена варяжских князей, кельтская политическая практика, кельтская эпическая традиция, особенности кельтского менталитета
Pro et contra/За и против
Варяжский путь апостола Андрея
ФЕДОТОВА Полина
Доказано существование влиятельного варяжского клана в Северо-Восточной Руси, который выступил инициатором переформатирования древнерусской истории. Известная ныне версия Хождения Андрея, в которую были вставлены слова о пути «в варяги» по Двине, возникла не ранее второй половины XIII в. на этапе варяжской редактуры русских летописей домонгольского периода, осуществленной ростово-новгородским духовенством варяжского происхождения. Более ранней датировке препятствует, прежде всего, Сказание о создании Печерской церкви, которое приписывается одному из авторов Киево-Печерского патерика епископу Симону Владимирскому. Этот явно проваряжский памятник начала XIII в. еще не содержит легенды о призвании варяжских князей и происхождении русской княжеской династии от варягов. Варяжский редактор второй половины XIII в., направляя апостола по пути «из варяг в греки», не ставил задачи описать какой-либо торговый путь, а, как и его предшественники, стремился освятить апостольским присутствием родные земли.
Западная и Северная Двина., Киево-Печерский патерик, Путь «из варяг в греки», Хождение апостола Андрея на Русь
Res publica/Государство
У ИСТОКОВ ВАРЯЖСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: КТО И КОГДА ВНЕДРИЛ ВАРЯЖСКИЙ ФАЛЬСИФИКАТ В РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ?
ФЕДОТОВА Полина
Пранализированы первые документально зафиксированные записи варяжской легенды в составе особого памятника – Летописца вскоре патриарха Никифора из северно-русских Кормчих книг: Новгородской Синодальной конца XIII в. и Ростово-Владимирской (Варсонофьевской) XIV в.. Отсутствие варяжской темы в южнорусских Кормчих того же периода – Рязанской (1284) и Владимиро-Волынской (1286) – ставит вопрос об источнике появления варяжской историографии в северно-русских Кормчих книгах. Связь особой редакции северных Кормчих с Переяславским собором 1280 г. свидетельствует, что варяжская легенда имела ростово-новгородское происхождение. Она появилась на свет в 60 – 70-е гг. XIII в. и была совместным проектом ростово-новгородского духовенства. Варягофильская концепция русской истории была порождением варяжского клана и ставила целью обосновать политическое главенство Новгорода в условиях, сложившихся в русских землях после монгольского погрома.
AT THE ORIGINS OF VARANGIAN HISTORIOGRAPHY: WHO AND WHEN INTRODUCED VARANGIAN FALSIFICATION IN RUSSIAN CHRONICLES?
The article analyzes the first documented records of the Varangian legend as part of a special monument – the Chronicler of the Patriarch Nicephorus from the North Russian Pilot books: the Novgorod Synodal of the end of the XIII century and the Rostov-Vladimir (Varsonofiev) of the XIV century. The absence of the Varangian theme in the South Russian Pilot books of the same period – Ryazan (1284) and Vladimir-Volyn (1286) – raises the question of the source of the appearance of Varangian historiography in the North Russian Pilot books. The author connects the appearance of a special edition of the Northern Pilot books with the Pereyaslavsky assembly in 1280 and comes to the conclusion that the Varangian legend had a Rostov-Novgorod origin. It was born in the 60-70s of the XIII century and it was a joint project of the Rostov-Novgorod clergy. Russian history's varyagophile concept was a product of the Varangian clan and aimed to justify the political supremacy of Novgorod in the new conditions that had developed in the Russian lands after the Mongol invasion.
Кормчие книги, Летописец Никифора, варяжская историография, исторические фальсификации, ростовское летописание
Искусство вечно
ДУНАЙСКИЙ ПУТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ
ФЕДОТОВА Полина
Статья посвящена анализу летописного Сказания о хождении апостола Андрея на Русь в составе Повести временных лет. Обосновано существование трех редакций Сказания: дунайской, древнерусской и варяжской. Первоначальное дунайское Сказание об Андрее не содержало рассказа о варягах и «варяжском пути». Фразы о варягах представляют собой позднейшую вставку в древнерусскую переделку Сказания. Дунайская редакция о хождении апостола Андрея через русско-славянские земли по Дунаю в Рим была создана в начале Х в. болгаро-моравским духовенством, последователями Кирилла и Мефодия. Вопрос о времени и месте создания двух других редакций требует изучения.
THE DANUBE WAY OF THE APOSTLE ANDREW
The article is devoted to the analysis of the chronicle Legend about the Apostle Andrew's trip to Russia, contained in the «Tale of bygone years». On the basis of logical and linguistic analysis, the author comes to the conclusion that there are three versions of the Legend: the Danube, the old Russian and the Varangian. In the original Danube version of the Tale of Andrew there were no phrases about the Varangians and the «Varangian way». They represent a later insertion in the old Russian alteration of Legend. The Danube edition of journey of the Apostle Andrew through the Russo-Slavic lands along the Danube to Rome was established in the beginning of the X century in Bulgaria by disciples of Cyril and Methodius of Great Moravia. The question of the time and place of the other two editions requires study.
Повесть временных лет, легенда об Андрее, научная критика источников, путь «из варяг в греки»
Pro et contra/За и против
НОРМАНИЗМ И АНТИНОРМАНИЗМ: ДВА ПОБЕГА НА ОДНОМ КОРНЕ
ФЕДОТОВА Полина
Проанализированы общие истоки двух противоборствующих концепций древнерусского политогенеза. Показано, что между норманизмом и антинорманизмом сходства гораздо больше, чем принято считать. В основе обеих позиций лежит ряд ошибочных представлений, вытекающих из убеждения в достоверности летописного материала. Однако Начальная летопись - поздний идеологический конструкт, отягощенный националистическим дискурсом как создателей, так и интерпретаторов летописи. Плодотворное изучение древнерусской истории невозможно без освобождения от груза искажающих ее националистических доктрин.
NORMANISM AND ANTINORMANISM: TWO SHOOTS ON A SINGLE ROOT
The common origins of the two opposing concepts of old Russian political Genesis are analyzed. It is shown that there are much more similarities between normanism and antinormanism than is commonly believed. Both positions are based on a number of misconceptions stemming from the belief in the reliability of the chronicle material. In fact, the Initial chronicle is a late ideological construct, burdened by the nationalist discourse of both the creators of the chronicle and its interpreters. A fruitful study of ancient Russian history is impossible without freeing from the burden of nationalist doctrines that distort it.
Vargian-Russian question, the influence of ethnocentrism on historiography., the problem of interpretation of written sources, Варяго-русский вопрос, влияние этноцентризма на историографию, проблема интерпретации письменных источников
Status rerum/Положение дел
РУССКИЕ КОРНИ ЭСТОНИИ: ГДЕ НАХОДИЛСЯ «ОСТРОГАРД РУСИ» АДАМА БРЕМЕНСКОГО?
ФЕДОТОВА Полина
Проанализированы сообщения немецкой хроники Адама Бременского о местонахождении Острогарда Руси (OstrogardRuzziae). На основе расчета указанных немецким хронистом расстояний автор показывает, что город и область с таким названием находились в Восточной Прибалтике, на территории современной Западной Эстонии. Наиболее обоснованно отождествлять его с древнерусской Колыванью (современный Таллинн). Название Ostrogard(«Большой восточный город») - датско-кельтский композит, который со временем приобрел нарицательное значение и применялся датчанами для обозначения любого крупного русского города на востоке.
RUSSIAN ROOTS OF ESTONIA:
WHERE WAS «OSTROGARD RUZZIAE» ADAM OF BREMEN?
The article is devoted to analysis of the Adam of Bremen’s German Chronicles about the location Ostergard Russia (Ostrogard Ruzziae). Based on the calculation of the distances specified by the German chronicler, the author comes to the conclusion that the city and the region with this name were in the Eastern Baltic region, on the territory of modern Western Estonia. It is most reasonable to identify it with the old Russian Kolyvan (modern Tallinn). The name Ostrogard («Big Eastern city») is a Danish-Celtic composite, which eventually acquired a common meaning and was used by the Danes to refer to any major Russian city in the East.
Балтийская Русь, Восточная Прибалтика, Историческая география
Pro et contra/За и против
ГДЕ НАХОДИЛАСЬ РУСЬ АСКОЛЬДА И ДИРА?
ФЕДОТОВА Полина
В статье развиты идеи И. П. Филевича и Н. К. Никольского о дунайских истоках самой Руси и первого исторического труда о начале Русской земли. На основе анализа летописного текста показано, что русские события второй половины IX– первой половины Х в. относятся не к днепровскому, а к дунайскому региону. Киев Аскольда и Дира и Новгород Олега – это дунайские Киев и Новгород, а сами Аскольд, Дир и Олег – русские князья из Подунавья, а не Поднепровья. История днепровской Руси началась в 40-х гг. Х в., после прихода на Днепр новой волны славяно-русских переселенцев с Нижнего Дуная во главе с князем Игорем. Истории перехода Русской земли с Дуная на Днепр была посвящена древнейшая «Повесть о Русской земле», созданная в середине Х в. и послужившая истоком всей позднейшей русской историографии.
WHERE WAS RUS’ OF ASKOLD AND DIR?
The article is a development of ideas of I. P. Filevich and N. K. Nikolsky on the Danube origins of both Russia itself and the first historical work on the beginning of the Russian land. Based on the analysis of the chronicle text, the author comes to the conclusion that the Russian events of the second half of the IX – the first half of the X century do not belong to the Dnieper, but to the Danube region. Kiev of Askold and Dir, and Novgorod of Oleg are the Danube Kiev and Novgorod, and Askold, Dir and Oleg – Russian princes from the Danube, not the Dnieper. History of the Dnieper Rus' began in the 40's. X century, after the arrival on the Dnieper new wave of Slavic-Russian immigrants from the Lower Danube, led by Prince Igor. The history of the transition of the Russian land from the Danube to the Dnieper was devoted to the ancient «Tale of the Russian land», created in the middle of the X century and served as the source of all later Russian historiography.
Начало русской историографии, дунайская Русь, текстологический анализ, эволюция летописной идеологии.
Pro et contra/За и против
ГЕОГРАФИЯ ПРОТИВ ИСТОРИИ: БЫЛ ЛИ ВОЗМОЖЕН ТОРГОВЫЙ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»?
ФЕДОТОВА Полина
Рассмотрена проблема летописного пути «из варяг в греки». На основании археологических, климатологических, палеоботанических данных показано, что водный маршрут от Балтики до Черного моря был невозможен в силу физико-географических причин. Существование балто-днепровского транзита из Скандинавии в Византию через Русь следует считать опровергнутым. Никогда не существовало торговой водно-континентальной магистрали из Скандинавии в Византию через территорию Восточной Европы. Этот путь представляет собой вымышленную фикцию историков-норманистов.
GEOGRAPHY AGAINST HISTORY: WHETHER THERE WAS A POSSIBLE TRADE ROUTE "FROM THE VARANGIANS TO THE GREEKS"?
The problem of chronicle way "from Varangians to Greeks"is considered. On the basis of archaeological, climatological, paleobotanical data, the author comes to the conclusion that the water route from the Baltic to the Black sea was impossible due to physical and geographical reasons. The existence of the Baltic-Dnieper transit from Scandinavia to Byzantium through Russia should now be considered refuted. In historical reality, there has never been a trade waterway from Scandinavia to Byzantium through Eastern Europe. This way is a fiction of historians-Normans.
Путь «из варяг в греки», балто-днепровский транзит., гидрография Северо-Запада, историческая изменчивость гидрорежима, климатические изменения, торгово-транспортные коммуникации
Pro et contra/За и против
«Варяжская русь» как псевдопроблема российской историографии
ФЕДОТОВА Полина
Статья посвящена проблеме так называемой «варяжской руси». Автор доказывает фиктивный характер данного термина, возникшего в науке вследствие ошибочной интерпретации летописного материала. В действительности русские и византийские источники не знают такой этнической группы как «варяго-русь», а последовательно отличают варягов от руси и славян. Автор приходит к выводу, что летописное тождество варягов и руси – тенденциозный вымысел московских идеологов XV века, которые стремились с его помощью сгладить противоречия, возникшие от соединения киевского и новгородского летописания. Анализ источников заставляет признать, что варяги – не русь, не славяне и не скандинавы. По мнению автора, вопрос об этнической принадлежности варягов и руси как двух самостоятельных групп нуждается в дальнейшем изучении.
«Varangian Rus» As A Pseudoproblem Of Russian Historiography
The article is devoted to the problem of so-called "Varangian Rus". The author proves the fictitious nature of this term, which arose in science as a result of erroneous interpretation of the chronicle material. In fact, Russian and Byzantine sources do not know of such ethnic groups as the "Varangian Rus" and consistently distinguish the Vаrangians from Rus and Slavs. The author comes to the conclusion that Chronicles the identity of the Vikings and Russia – biased fiction Moscow ideologists of the XV century, who sought to use it to bridge the gap arising from the connection of Kiev and Novgorod Chronicles. The analysis of the sources forces us to admit that the Varangians – not Russia, not Slavs, not Scandinavians. According to the author, the issue of the ethnicity of Varangians and Rus ' as two separate groups needs further study.
Rus, Russian chronicle, Slavs, science critics of historical sources., varangian-russian question, Варяги, варяго-русский вопрос, научная критика источников. Varangians, русское летописание, русь, славяне
Status rerum/Положение дел
Дитя монгольского погрома. К проблеме историчности князя Рюрика
ФЕДОТОВА Полина
Впервые в отечественной историографии системно проанализирована источниковая база рюриковедения: где, когда, при каких обстоятельствах, в каких документах и нарративах появляются первые сообщения о варяжском князе Рюрике, которого по традиции считают родоначальником первой правящей династии на Руси. Исключительно позднее появление в источниках упоминаний о Рюрике свидетельствует о подложном характере варяжской генеалогии.
A child of mongolian mayhem. To problem of prince Ruric historical being
The article represents the first in Russian historiography the study specifically aimed at identifying the source base of Ryurik’s research: where, when, under what circumstances, documents and narratives appear the first reports of the Varangian Prince Rurik, who is traditionally considered the ancestor of the first reigning dynasty in Russia. Exceptionally late appearance in the sources mentions about Rurik leads the author to the conclusion about the fraudulent nature of the varangian genealogy.
The Varangian Prince Rurik, fictive genealogy, scholarly criticism of sources, the ancient Russian narratives, Варяжский князь Рюрик, древнерусские нарративы, научная критика источников, подложные генеалогии
_________________
Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo - Tautos klestėjimo.
|
|







