 |
| Svetainės tvarkdarys |
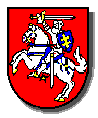 |
Užsiregistravo: 05 Spa 2006 01:16
Pranešimai: 27103
Miestas: Ignalina
|
Петр Корысь. Крепостная зависимость, панщина и их наследие в Польше
(пер. с польск. Александра Суслова)
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe ... cle/12173/
Piotr Koryś. Serfdom, Feudal Land Tenure and Their Legacy in Poland
Петр Корысь
(Варшавский университет, доцент факультета экономических наук; PhD)
pkorys@wne.uw.edu.pl.
УДК: 93
Аннотация:
Статья представляет собой попытку выявить основные идеи полемики по поводу крепостничества в польской интеллектуальной традиции, прежде всего с учетом современных дискуссий.
Автор отмечает, что ни панщина, ни крепостная зависимость не сохранились в исторической памяти общества, хотя память о нищете крестьян, об их превращении в поляков проследить удается. По его мнению, проблему влияния крепостной зависимости и панщины на сегодняшние социальные институты разрешить трудно.
Исследователи и публицисты, отмечающие наличие такого влияния («постфольварочного синдрома»), не в состоянии проследить этот процесс в долгосрочной перспективе с помощью аналитических инструментов и, таким образом, воспринимают его как исходный факт, а сами занимаются сбором эмпирического материала, который подтвердил бы их тезисы.
Ключевые слова: крепостничество, панщина, Польша, культурное наследие, постфольварочный синдром
Piotr Korys´ (Warsaw University; assistant professor, Faculty of economic sciences; PhD) pkorys@wne.uw.edu.pl.
UDC: 93
Abstract:
In this article, Korys seeks to highlight the fundamental ideas in the polemics around serfdom in the Polish intellectual tradition, with a view to contemporary discussions of the same. He notes that neither feudal land tenure [pańszczyzna] nor dependence on serf labor have been preserved in society’s historical memory, although memory of the poverty of the peasantry and of the peasants’ transformation into “Poles” can be traced. Korys finds that it is difficult to solve the problem of the influence of serf-dependence and pańszczyzna on modern-day social institutions. The scholars and journalists who have claimed the existence of this influence (dubbed “post-folwark syndrome”) are not actually able to track the process in long-term perspective using analytic tools and thus accept it as an initial fact, directing their efforts toward collecting empirical material that would confirm this hypothesis.
Key words: serfdom, socage, Poland, cultural legacy, post-folwark syndrome
В Средние века Восточная Европа оставалась на периферии европейской цивилизации, на ее территории не сложилась полноценная модель феодальных отношений (особенно велики были различия в вопросах наследования и прав собственности на землю). Подражание западным институтам и их распространение приводили ко все большему институциональному и политическому сходству между двумя частями Европы. Однако в XVI веке, когда процессы урбанизации, формирования протоиндустрии, торговли и рынка услуг, а также институциональные и политические реформы стали основой для выстраивания фундамента современной капиталистической экономики в центре Европы, пути развития институтов начали расходиться [Małowist 1973; Braudel 1979]. В Польше сложилась уникальная для Европы политическая система, которую называют шляхетской республикой (или шляхетской демократией). В то же время страны Восточной Европы, особенно Речь Посполитая[2], стали выполнять функцию житницы Европы Западной[3]. В ходе длительного процесса специализации на польских землях сложилась монокультурная аграрная экономика. Ее главным продуктом стало зерно: рожь и пшеница, которые экспортировались, главным образом через Гданьск, на запад Европы, вплоть до Амстердама и Лондона.
Данная модель, описанная в трудах польских специалистов по экономической истории, благоприятствовала развитию шляхетских фольварков[4], а затем — на восточных окраинах (кресах) Речи Посполитой — и крупных магнатских хозяйств (с огромными состояниями), которые отличались низкой производительностью, но благодаря своим масштабам были способны обеспечивать доход, позволявший землевладельцам поддерживать привычный уровень жизни [Kula 1962; Wyczański 1960]. Поначалу, в так называемый золотой век, преобразование экономической структуры не сильно влияло на фактическое положение крестьянских семей, но с течением времени (и по мере ухудшения условий торговли) имущественное расслоение на польских землях стало усиливаться. Крупные землевладельцы и наиболее состоятельные шляхтичи начали эксплуатировать политические институты, прежде всего сословный парламент (сейм), ради сохранения своего материального статуса и за счет экономического положения других слоев общества. Это в свою очередь привело к повсеместному ограничению личной свободы крестьян. Олицетворением бедной польской деревни стал крепостной мужик, зависимый в правовом и имущественном отношении от господина и связанный отработочной рентой (панщиной).
Цель настоящей работы заключается в анализе не столько самих феноменов крепостной зависимости и панщины, сколько их социальных последствий, а также сложившегося вокруг них академического и публичного дискурса. Споры о краткосрочных и долгосрочных последствиях крепостничества идут в Польше до сих пор, отражаясь на оценке наследия Речи Посполитой; к ним апеллируют также при описании и характеристике сменяющих друг друга форм польского государства, общественных, экономических и политических институтов. Предметом дискуссии, особенно в последние годы, становятся последствия «постфольварочной» ментальности, которые предположительно должны распространяться на отношение к статусу подчиненного, к закону и публичным институтам. С точки зрения критиков общественного устройства Речи Посполитой, глубина социальных последствий крепостного права и, в более широкой оптике, шляхетской традиции должна быть одной из главных — на ментальном уровне — причин польской отсталости и неспособности к полноценной модернизации, т.е. трансформации общества по западной модели.
Современная полемика о роли крепостной зависимости крестьян и панщины коренится в спорах польских историков о том, как следует оценивать наследие Речи Посполитой. Начиная с краковской исторической школы конца XIX века, а затем уже в трудах специалистов по экономической истории, живших в межвоенный период, и особенно в работах марксистов, проблема социальных последствий крестьянской экономики и общественных отношений в деревне поднималась вновь и вновь. Изучение истории этих отношений, сохранявшее актуальность до конца существования Польской Народной Республики, позже утратило значимость, однако сегодня опять набирает силу — на этот раз уже не в форме архивных и исторических изысканий, а в контексте истории идей [Sosnowska 2004] — и попыток интерпретации современности [Hryniewicz 2004; Sowa 2011; Leder 2014].
Данная статья представляет собой попытку реконструкции основных идей полемики вокруг крепостничества в польской интеллектуальной традиции, прежде всего с учетом современных дискуссий.
1. Крепостная зависимость крестьян в Польше
Ранний этап существования крепостной зависимости в Польше (XIV—XV века) во многом сходен с соответствующим этапом в Западной Европе. Позже, когда на Западе значение крепостничества уменьшилось или оно вовсе исчезло, в Польше начался обратный процесс, который принято называть вторичным закрепощением. Пропорционально росту политического могущества шляхты, получавшей все новые привилегии от выборных королей[5], более тяжелым становилось положение польских крестьян. Этот процесс вел к усилению судебной власти феодала-шляхтича в отношении крестьянина. В итоге крестьяне были окончательно приписаны к земле, остающейся в шляхетском (или королевском) владении. И хотя это отнюдь не означало, что отдельно взятого мужика можно было продать или купить, будто раба, но приобретение деревни подразумевало, что и живущим в ней крестьянам доставался новый владелец.
Основополагающим элементом крепостной системы — отношений зависимости крестьянина от собственника земли — была рента: чиншевая, продуктовая, а также — и эта форма была главной — отработочная, то есть панщина. Чинш представлял собой денежную плату за пользование господской землей. С начала XVI века, когда вступили в силу Королевский универсал 1518 года и Торуньский статут 1520 года, крестьяне, населяющие шляхетские земли, были обязаны выплачивать ренту в форме отработки. Ее норма составляла не менее одного трудового дня на один лан[6] земли, используемой в крестьянском хозяйстве, причем потолок ренты юридически установлен не был. В результате объем повинности возрастал, в среднем от одного-двух дней панщины с лана используемой земли до шести дней в XVII веке и даже, в крайних случаях, до десяти дней в XVIII. Это не означает, что на владельца необходимо было работать постоянно, а лишь свидетельствует, что именно такое число трудовых дней причиталось с крестьянского хозяйства, обрабатывавшего один лан земли (и пропорционально меньший объем труда с участков меньшей площади).
Наибольшего размаха вторичное закрепощение и панщина достигли в XVIII веке. Права крестьян оказались сведены к нулю, а панщина приобрела экстремальные формы. Это было связано с аграрным кризисом в Речи Посполитой, обусловленным ухудшением условий торговли, опустошительными войнами на территории страны во второй половине XVII и первых двух десятилетиях XVIII века, а также снижением спроса на экспортируемое Польшей зерно. Господствующие же слои населения, обладавшие огромным политическим весом и желавшие сохранить свой уровень жизни, перекладывали все связанные с этой ситуацией тяготы на плечи крестьян. Впрочем, в фольварках с более современной системой управления уже с середины XVIII века наблюдается процесс постепенного отказа от панщины и замены ее чиншевой рентой [Topolski 2015].
Фактические же изменения в правовом статусе крестьян произошли лишь на рубеже XVIII—XIX столетий. Статьи Конституции 3 мая 1791 года гарантировали им правовую защиту государства и фиксацию повинностей (чтобы их нельзя было увеличить). Изданный три года спустя Поланецкий универсал гарантировал крестьянам личную свободу и другие права, в том числе право покидать землю (с некоторыми условиями) и право отстаивать свои интересы в судах общей юрисдикции, а также не позволял сгонять их с земли, запрещал выселения и ограничивал сферу панщины. Кроме того, на основании универсала была учреждена должность надзирателя — государственного чиновника, занимавшегося вопросами, связанными с крестьянами [Bardach, Leśnodorski, Pietrzak 2014; Korbowicz, Witkowski 2009; Makiłła 2015].
Оба этих законодательных акта почти не применялись на практике из-за раздела Речи Посполитой и ее исчезновения как независимого государства. Однако вскоре Кодекс Наполеона, введенный на территории Княжества Варшавского (включавшего часть земель бывшей Речи Посполитой), обеспечил крестьянам личную свободу. Процесс упразднения повинностей по отношению к землевладельцам, и в первую очередь панщины, длился значительно дольше. На территории бывшей Речи Посполитой панщина была отменена в период 1811—1864 годов, вначале на прусской части, а на российской (в Привислинском крае) в самом конце. Одновременно с этим происходило частичное дробление земельных участков и освобождение крестьян. К концу XIX века правовой статус крестьянства уже ничем не отличался от статуса других слоев общества [Bardach, Leśnodorski, Pietrzak 2014, Korbowicz, Witkowski 2009].
Можно еще добавить, что экономические права польских крестьян вновь были ограничены сборами в пользу оккупационных войск во время Второй мировой войны. Еще важнее, что с 1951 по 1971 год крестьян принуждали к обязательным поставкам, образцом для которых служил налог на кулаков в СССР. Каждый крестьянин обязан был произвести определенное количество сельскохозяйственных продуктов, соответствующее площади его земли, которые закупались по государственным ценам, во много раз более низким, чем рыночные. Несмотря на то что строй был социалистическим, можно усмотреть параллели между обязательными поставками и некоторыми формами постфеодальной крестьянской ренты.
2. Крепостная зависимость и панщина в идеологических спорах и исследованиях историков
а) От разделов до начала Второй мировой войны
Вопрос о роли крепостного права и панщины как социальных и политических институтов возник уже в период Четырехлетнего сейма (1788—1792), когда велась дискуссия о реформе государственного строя Польши. Сторонники партии реформ выступали за наделение крестьян личной свободой, ограничение панщины и ее постепенную замену чиншем. Об этом, среди многих других, писали Гуго Коллонтай, Павел Ксаверий Бжостовский, Францишек Карп и Станислав Сташиц [Konopczyński 2012; Grześkowiak-Krwawicz 2000; Goliński 1984]. Часть помещиков, таких как Бжостовский, Иоахим Хрептович или (уже в Княжестве Варшавском, в 1811 году) Сташиц, претворяли эти меры в жизнь: отменяли панщину и переходили на чинш, предоставляли крестьянам самоуправление в границах своих владений, свободу перемещения и т.д. Тезис о необходимости отмены панщины рассматривался потом сеймом Царства Польского перед Ноябрьским восстанием 1830 года, но был отвергнут [Limanowski 1911]. Позднее проблема панщины и привития крестьянам чувства национальной принадлежности стала важным пунктом споров, которые велись в кругах эмигрантов после Ноябрьского восстания [Ludwikowski 1982; Wapiński 1997; Bernacki, Maciejewski, Rzegocki 2011; Zamojska, Wojdyło, Radomska 1994]. Многие польские политики тогда осознали, что поддержание существующего правового режима, в особенности панщины и отсутствия равноправия, оборачивается исключением крестьян из нации и борьбы за независимость. В каком-то смысле этот вывод подтвердило Галицийское восстание — крестьянский бунт, обращенный против шляхты и духовенства, который вспыхнул на землях австрийской Галиции в 1846 году.
Споры вокруг крестьянского вопроса, которые велись в российской части Польши — самой большой и последней, где сохранялось крепостное право, — после утраты автономии приобретали все более академический характер. Реальные шансы на изменение правового статуса крестьянства появились на рубеже 1850—1860-х годов [Korbowicz, Witkowski 2009]. С одной стороны, в это время произошло некоторое смягчение российского политического курса, позволившее правительству Царства Польского во главе с Александром Велёпольским вновь вести автономную политику, а с другой — уже на территории самой России в 1861 году было отменено крепостное право. Споры касались формы освобождения крестьян (с выплатой компенсации или без). Некоторым шляхетским хозяйствам, погрязшим в долгах, ликвидация панщины и крепостного права грозила разорением — отсюда неприязненное отношение шляхты к реформам. Характер условий освобождения отличался от общероссийских, причиной чего был декрет руководства восстания в 1863 году[7]. Схожие условия ввел и царь в своем указе 1864 года, положившем конец панщине на польских землях [Kallas, Krzymkowski 2006, Makiłła 2015].
С этого времени там стал обсуждаться главным образом вопрос о превращении крестьян в граждан. При этом одной из центральных идей на польских землях стала идея строительства современной нации, которую разделяли наиболее влиятельные политические группы современного типа [Wapiński 1997; Kizwalter 1999; Koryś 2008]. Впрочем, к проблеме последствий крепостного права и панщины то и дело возвращались участники публичных споров. Краковская историческая школа в своей версии истории Речи Посполитой поставила вопрос о политическом неравенстве и ограничениях свободы как одних из главных источников слабости польского государства [Jaskólski 1990]. В свою очередь, политические публицисты и ученые, близкие к социалистическим взглядам, занимались выявлением угнетенного класса на польских землях — исторически, по их мнению, объектом эксплуатации был именно крепостной крестьянин. Восприятие марксистских идей и попытка их переноса на родную почву[8], ставившая в центр исторического процесса освобождение крестьянства, вели к выводам, не сильно отличавшимся от наблюдений русских социалистов, а их влияние ощущается в последующих польских исследованиях, посвященных крестьянству [Śliwa 1993, см. также: Kizwalter 1999). Среди поднимаемых вопросов также значилась проблема деревенской нищеты как следствия политики шляхты (а потом и захватчиков) в отношении крестьян. Станислав Щепановский, изучая бедность в Галиции, подчеркивал, что панщина влияла на экономическое положение и здоровье крестьян даже спустя долгое время после их освобождения (он путешествовал по Галиции через четверть века после отмены там крепостного права).
В конце XIX — начале XX века вышли первые синтетические труды по истории польских крестьян, которые с этого времени издавались в Польше примерно с такой же регулярностью, с какой сменялись поколения [см., например: Bujak 1908; Świętochowski 1928; Grabski 1929; Inglot 1970, 1972, 1980; Borkowski 1992]. Крестьянская проблематика оказалась в центре интересов зарождавшейся социальной и экономической истории. Работавший в Кракове историк и социолог Францишек Буяк посвятил истории крестьян значительную часть своих трудов [Bujak 1908]. Его продолжатели, в частности Стефан Инглот, развили предложенную им модель крестьянских исследований, совмещающую методы истории, экономики, социологии и антропологии. Познанский историк Ян Рутковский [Rutkowski 1914; 1921] в межвоенный период изучал крепостную зависимость крестьян в сравнительной перспективе. Он сделал предметом изучения проблему рентабельности крепостничества и экономическое положение закрепощенного крестьянина (прежде всего в XVIII веке). К концу межвоенного периода исследованием этой проблематики занялось следующее поколение историков, которым суждено было сыграть свою роль в изучении крепостной зависимости, панщины и их последствий уже после Второй мировой войны. На самом пороге войны докторскую работу защитил Витольд Куля, а немного более старший Мариан Маловист занимался исследованиями экономической истории Европы с начала 1930-х.
б) Послевоенный период
История польских крестьян стала важным компонентом исторических исследований и в Народной Польше. С одной стороны, продолжалась деятельность довоенных школ: познанской, сосредоточенной вокруг Рутковского, и галицийской, продолжавшей вместе с Инглотом направление, заданное Буяком. Главным из учеников Рутковского был Ежи Топольский. С другой стороны, с начала 1950-х годов Куля и Маловист вели исследования, которые должны были по-новому интерпретировать экономическую и социальную историю Польши, с особым вниманием к институтам крепостного права. Кроме того, изучением аграрной экономики занялся Анджей Вычанский, основавший отдельную школу.
Куля и Маловист — историки, заслужившие международное признание, — применяли в своих работах близкую к марксизму методологию, описывая общественно-политические изменения, предопределившие отсталость Речи Посполитой и всей Восточной Европы в Новое время. По мнению Маловиста, причиной возврата к крепостничеству были перемены в экономике и общественном укладе Запада, а также связанное с этим повышение спроса на зерно [Małowist 1973]. Функционально оправданный в течение короткого периода, рост политического влияния и независимости шляхты стал преградой для экономического развития в долгосрочном отношении. Пострадало же прежде всего крестьянское сословие, слишком слабое, чтобы защитить свои интересы (причем поначалу его положение не было очень тяжелым, поэтому крестьяне не проявляли склонности к бунтам). Как сам Маловист, так и его ученики посвятили крестьянству лишь небольшую часть своих трудов, сосредоточиваясь на изучении европейской экономической системы и процессов, которые привели к аграрному дуализму, а также на социальных, политических и экономических следствиях этого дуализма.
Куля в своих работах, отсылавших, в том числе, к традиции школы «Анналов», показал, что в долгосрочной перспективе аграрный дуализм и вторичное закрепощение почти неминуемо вели к усилению неравенства и все большему снижению статуса крестьянского сословия в социальной иерархии. Отсутствие условий для развития городов, а затем и промышленности (что тщательно изучалось на материале мануфактур XVIII века) привело, в свою очередь, к тому, что не сложились и условия для социальной мобильности: у крестьян отсутствовала возможность покинуть свое сословие.
По мнению Кули, крепостная зависимость крестьян как таковая стала причиной формирования весьма своеобразной экономической системы, в которой сельское хозяйство делилось на два сектора. В торгово-экспортном секторе преобладали помещики, способные минимизировать стоимость товара за счет доступа к бесплатной рабочей силе. Крестьяне при этом обеспечивали себя сами, создавая специфическое хозяйство, рациональность которого была основана на оптимизации труда, необходимого для выживания [Kula 1962].
Исследования Витольда Кули продолжила группа его учеников. Среди них особое место занимал Яцек Коханович, подробно описавший экономику крестьянского хозяйства и объяснивший устройство крестьянской экономики в Польше. Он показал также устойчивость экономических механизмов, сложившихся в период крепостничества, даже в то время, когда влияние капиталистических институтов уже было сильным. Кроме того, он подробно проанализировал крестьянское хозяйство — институт, который можно считать основным каналом межпоколенческой трансляции жизненных стратегий, обычаев и социальных установок [Kochanowicz 1981, 1992].
Иную интерпретацию истории крепостного права предложили Анджей Вычанский и его ученики, а также продолжавший исследования Рутковского Ежи Топольский. Они указывали на сходство в положении крестьян Польши и Западной Европы, а также на ограниченную уместность употребления таких понятий, как крепостная зависимость, в оценочном, а не описательном ключе. С их точки зрения, еще в XVI веке экономическое положение польского крестьянства не слишком отличалось от положения западноевропейских крестьян, а его фактический правовой статус вовсе не был одной из форм рабства. Сам же процесс постепенного обнищания крестьян, как считали ученые, являлся следствием спада экономики Речи Посполитой в результате войн, изменения условий в торговле зерном и экономических перемен в Западной Европе, а не институциональной специфики Польши. В то же время Ежи Топольский указывал, что в некоторых районах Польши можно было наблюдать явление, подобное тому, которое несколько ранее наблюдалось на Западе: панщина сменялась чиншем [Topolski 1994].
Достойны упоминания и многочисленные исследования, посвященные эмансипации крестьян [см., например: Kieniewicz 1953; Groniowski 1976; Inglot 1972]. Часть их вписана в традицию марксистской историографии, но были также работы, продолжавшие более ранние направления. Интерес к себе возбуждали крестьянские бунты как форма социальной революции — и те, что вспыхивали за время существования Речи Посполитой, такие как восстание Костки-Наперского, и те, что происходили в XIX веке, как галицийская резня. По мнению исследователей-марксистов, эти бунты предвосхищали освобождение трудящихся. Часть ученых усматривала связь между слабостью крестьянских мятежей и отсутствием эволюции институтов Речи Посполитой.
в) Современное исследование крепостной зависимости и панщины
В период системной трансформации польского общества (после 1989 года) интерес к истории крестьянства ослаб. Даже такие ученые, как Яцек Коханович, которые специализировались в этой области и обладали междисциплинарным инструментарием, позволяющим изучать процессы большой длительности, сменили вектор своих исследований. Работа, впрочем, продолжалась, но подлинный ренессанс проблематики наступил в 2000-е годы, когда она вернулась в мейнстрим социальных исследований вместе с вопросом о наследии крепостной зависимости и института панщины сегодня. Существенную роль в этом сыграли специалисты, связанные с Кохановичем (Мария Крисань, Анна Сосновская). Книга Сосновской «Понять отсталость» [Sosnowska 2004] сыграла важную роль в возрождении интереса к достижениям польских школ экономической истории, прежде всего — школ Кули и Маловиста. В своем анализе Сосновская представила основные мотивы исследований польских экономических историков (помимо упомянутых Кули и Маловиста она рассматривала работы Вычанского и Топольского, а также последователей каждого из них), много внимания уделив истории деревни и крестьян, особенно роли институтов крепостной зависимости и панщины в устойчивости польской отсталости.
Исследования Сосновской популяризировал Ян Сова в своей блистательной критике социально-политической системы Речи Посполитой, книге «Фантомное тело короля» [Sowa 2011]. В ней он стремится выявить источники слабости польского государства, называя прежде всего крепостничество. Он убеждает, что по мере того, как шляхта выторговывала себе все новые привилегии, происходило превращение крепостного права в рабство. При этом автор выдвинул тезис о том, что шляхта вела себя с крестьянами как колониальная элита и фактически их дегуманизировала. Можно заметить, что Сова таким образом эксплицировал тезис, ранее уже присутствовавший в некоторых направлениях польской экономической истории марксистского толка, согласно которому колониальная эксплуатация в Польше была обращена вовнутрь (шляхтичи эксплуатировали крестьян как колонизаторы), и это объясняет, почему она (а также тип отношений «господин / подданный» вместо гражданской ролевой модели) оказалась куда более долговечной. В свою очередь, и отсталость приобрела долговременный характер.
В результате разделы Польши предстают в аналитической перспективе Совы не как колонизация, а, напротив, как причина гибели колониальной империи и предпосылка модернизации. При этом, по мнению автора, барьеры на уровне ментальности, устойчивость шляхетских мифов и привязанность к «постшляхетским» воззрениям на историю до сих пор блокируют возможности модернизации, а Польша остается постколониальной страной.
Своего рода эпилогом к такому анализу стала книга «Приснившаяся революция» Анджея Ледера [Leder 2014], который утверждает, что урбанистическая революция в Польше могла свершиться лишь после того, как освободилось место, занятое горожанами-евреями, а политическая элита шляхетской Польши была уничтожена в ходе драматических событий Второй мировой войны. По мнению Ледера, «приснившаяся революция», произошедшая в первом десятилетии по окончании войны, уже в ПНР, трансформировала крестьянское общество в городское. Такие обстоятельства формирования современного общества способствовали сохранению разного рода нежелательных и часто не осознаваемых обществом элементов института крепостного права.
Некоторый вклад в возрождение интереса к крестьянам и наследию крепостной экономики внесли работы специалиста по теории организаций Януша Хрыневича, который считает, что устойчивость обычаев и стратегий, свойственных крепостничеству, можно обнаружить не только в культуре польского общества, но и, главным образом, в формах его экономической организации. При таком подходе наиболее заметной сферой проявления «постфольварковых» жизненных установок должна быть корпоративная культура. В отношениях «глава / подчиненный» может находить отражение не только модель «патрон — клиент», но также схема «шляхтич / арендатор — крепостной мужик». Последствием могут быть патриархальные черты управления и квазифеодальный характер социальной системы. Такая интерпретация во многом не учитывает колониальные формы связей между польскими землями и их метрополиями в XIX веке, а затем и введение неофеодальной, по определению Кеннета Йоввита, системы государственного социализма.
Согласно данной интерпретации, имеющей довольно слабые эмпирические основания, в Польше и во всем регионе отсталость прежде всего связана с установлением дуальной общественной структуры (крестьянско-шляхетской), а точнее — с крепостничеством и панщиной, равно как с возраставшим политическим и экономическим влиянием магнатской олигархии. При этом институты отсталого общества оказались исключительно устойчивыми: ни модернизационные усилия межвоенного периода, ни коммунистическая модернизация не устранили окончательно их следов, поэтому до сих пор их следует трактовать в качестве первостепенных причин польской отсталости и незавершенности модернизации.
Стоит отметить, что изучение социальных связей и человеческого капитала в Польше, а также их влияния на развитие и, шире, формирование общественно-экономических институтов имеет гораздо более длительную традицию, начало которой было положено трудами о крестьянах, созданными на рубеже XIX—XX веков. Особенно интересны исследования Яцека Тарковского 1980-х годов [Tarkowski 1994], близкие работе Эдуарда Банфилда о южной Италии, которые раскрывают систему социальных отношений, обусловившую отсталость польского общества и ее устойчивость. Правда, автор имеет в виду не крестьянский социум, а, скорее, неудачу попытки построить социализм, показывая, что институты социалистического государства на деле играют антимодернизационную роль.
3. Крепостная зависимость и панщина каксоциальные институты длительного действия. Институты крепостничества в публичном дискурсе
Крепостная зависимость и панщина были социальными институтами, характер которых со временем становился все более архаичным. Существенно то, что они затрудняли формирование современной нации — вплоть до конца XIX века крестьян не воспринимали как ее часть. Некоторые публицисты и политики осознавали это еще во второй половине XVIII столетия [Goliński 1984; Konopczyński 2012], что нашло отражение в политических спорах во время Великого сейма. Но несмотря на то, что институт крепостной зависимости на рубеже XVIII—XIX веков был формально упразднен, из-за сочетания неблагоприятных обстоятельств (гибель государства, войны, интересы шляхты) панщина — обязанность бесплатно работать на землевладельца — существовала до середины XIX века и даже позднее на значительной части польских земель.
Процесс формирования современного национального самосознания в Польше, проходивший после Январского восстания 1863 года, относился уже к посткрепостническому периоду. Новый социальный слой — городская интеллигенция, во многом сложившаяся из потомков мелких шляхтичей, — прилагал немалые усилия для создания нации — уже не шляхетской, а охватывающей все слои общества [Kizwalter 1999; Łepkowski 2003]. Это увенчалось успехом: в течение последних трех-четырех десятилетий XIX века польские крестьяне стали идентифицировать себя как поляков, о чем подробно писал в своей недавней работе Михал Лучевский [Łuczewski 2012]. В новом варианте национальной памяти крестьяне времен Речи Посполитой и разделов представали в образе косиньеров, принимавших участие в восстании Тадеуша Костюшко, мифической лановой пехоты[9], участвовавшей в Грюнвальдской битве, или крестьян-ополченцев времен Январского восстания. Опыту крепостной зависимости и панщины в такой памяти места не нашлось.
В последние десятилетия XIX века под влиянием сначала краковской исторической школы, а затем национально-демократического движения, Польской социалистической партии и Польской крестьянской партии (ведущих политических сил конца XIX — первых четырех десятилетий XX века) сформировалась точка зрения, что непременным условием модернизации является строительство современной нации, основанной на равноправии. Поэтому социальные и политические институты, ставящие под вопрос такое равенство, в течение двух-трех десятилетий после отмены крепостного права в Царстве Польском были почти единогласно признаны стоящими на пути модернизации. Впрочем, с конца XIX века шел и процесс мифологизации истории Речи Посполитой до ее разделов, в котором важную роль играли такие писатели, как Генрик Сенкевич. В изложенной ими версии национальной истории почти не оставалось места для осмысления судеб крестьянства в шляхетской Речи Посполитой. И хотя в литературе появился мотив бедности современных крестьян, например в произведениях Владислава Реймонта, Болеслава Пруса и других писателей, дискуссия по поводу долговременных причин этой бедности и истоков крестьянско-шляхетских конфликтов так и не была поднята.
Не изменилась ситуация и после восстановления независимости. Чествовали крестьянских героев (политика Винценты Витоса или Михала Джималы, не уступавшего давлению немецкой администрации), вспоминали и героев Речи Посполитой, однако сама проблема крепостной зависимости и панщины не входила в число важнейших для государства вопросов, подлежащих общественному обсуждению. В лучшем случае она затрагивалась на периферии таких споров — в качестве примера можно привести поэму поэта-коммуниста Бруно Ясенского «Слово о Якубе Шеле». Но и в этом произведении Шеля предстает революционером и бунтарем, нарушающим социальные устои, Ясенский вовсе не поднимает проблему осмысления опыта крепостной зависимости и панщины и его включения в национальную идентичность (скорее поэт желал эту идентичность устранить).
Несмотря на это, как подчеркивает Томаш Кизвальтер [Kizwalter 2014], в памяти самих крестьян панщина, а точнее страх перед ее возвращением, сохранялась вплоть до 1940-х годов. Кизвальтер пишет, насколько политически слабо было крестьянство и сильна шляхта (даже во времена, когда панщину отменили), что этот страх не исчезал несколько десятков лет — дольше жизни одного поколения.
Вопрос о панщине и крепостной зависимости вернулся в политическую дискуссию после Второй мировой войны, когда была провозглашена Польская Народная Республика. Но и тогда он скорее стал предметом научных дебатов, а не частью национальной памяти. Проблема крепостного права нашла свое место в учебниках, но это мало повлияло на увековечение данного явления. Из крестьянских героев в честь Якуба Шели назвали площадь во Вроцлаве, а в честь Александра Костки-Наперского — улицы в нескольких городах. Многочисленные мемориальные комплексы и музеи демонстрировали бедность крестьян и напоминали о крепостной зависимости и панщине, но все это были маргинальные акции.
На публичном уровне о наследии крепостничества вспомнили совсем недавно, в течение последних десяти-двадцати лет. Данный вопрос стал подниматься в нескольких контекстах. Во-первых, обсуждается, насколько правильным является термин «крепостная зависимость» и не стоит ли заменить его на «рабство». В начале второго десятилетия XXI века волна дискуссии о судьбе крестьян перешла в медийное пространство. Выступавшие настаивали на использовании понятия «рабство» вместо «крепостная зависимость», а также отмечали необходимость признания крепостного права злодеянием, тяготящим самих поляков. В таком контексте прозвучало предложение — скорее демонстрирующее радикальный настрой публициста, нежели имеющее какой-либо практический смысл — выплачивать компенсацию за панщину, что позволило бы закрыть тему такого рода исторического опыта. Вся эта дискуссия была своего рода попыткой деконструкции национальных мифов, подкрепленных шляхетской традицией, которая уже слабо соотносится с реалиями современной Польши [Guzowski 2012; Pacholski 2012; Pilot 2012].
Второй мотив дискуссии о крепостной зависимости и панщине отсылает к проблеме дисбаланса в развитии отдельных польских регионов. Одним из ее объяснений (оно, правда, не подтверждено основательными статистическими исследованиями) служит различная судьба этих регионов в XIX веке, особенно в плане политики государств-захватчиков в отношении крестьян. Сохраняющаяся разница в развитии, как полагает часть специалистов, должна свидетельствовать о негативном влиянии шляхетского фольваркового хозяйства, крепостной зависимости и панщины на институты, определяющие развитие экономики. В Великой Польше и Поморье, где еще до разделов панщина начинала сменяться более современными формами ведения хозяйства, этот процесс был дополнительно усилен политикой Пруссии и быстрым отходом от крепостного права в XIX веке. Что касается польских земель под российским и австрийским владычеством, то там панщина увеличивала отставание, консервируя постфеодальные общественные институты [Hryniewicz 2004].
В ходе этой дискуссии при обсуждении работ Василевского, Хрыневича, Совы и Ледера [см.: Wasilewski 1986; Hryniewicz 2004, 2007; Sowa 2011; Leder 2014] был создан термин «постфольварковый синдром» («фольварковый синдром», «фольварковый культурный код»), который ныне повсеместно используется в публичных дебатах [см., например: Szomburg 2008; Wasilewski 2012a, 2012b; Santorski 2013]. Означает он примерно следующее: в течение долгого времени вследствие ряда нежелательных факторов в крепостной деревне сформировался набор индивидуальных стратегий выживания, а не как коллективных стратегий формирования социального капитала. Эти стратегии оказались живучими, что объясняется внешними условиями, долго действовавшими после отмены крепостного права (войны, социалистический режим) и даже сегодня влияющими на экономическую культуру и общественные отношения в Польше, особенно на уровень доверия. В данном контексте выявляют элементы экономической культуры (упомянутый социальный капитал, корпоративная культура и т.д.), снижающие потенциал развития Польши (на микро- и макроуровне), а затем связывают их со стратегиями действия, коммуникации, элементами идентичности и исторической памяти, которые складывались при длительном существовании институтов фольварка и панщины.
4. Выводы
Крепостная зависимость и отработочная рента (панщина) были устойчивыми элементами польской аграрной экономики в предмодерную эпоху. Несомненно, они стали причиной сохранения крайне больших разрывов в имущественном положении и уровне доходов между разными слоями общества [Rutkowski 1938; Wyczański 1977; Sowa 2011), а в процессе (недо)развития польской экономики их роль возрастала, из-за чего добрая половина крестьян в XVIII веке оказалась на грани выживания. XVIII столетие, век Просвещения и разума, изменило взгляды части польской шляхетской элиты, которая все яснее видела в таком неравенстве угрозу стабильности социальных институтов. Однако реформы не защитили государство, прекратившее свое существование на рубеже XVIII—XIX веков. (Стоит, впрочем, отметить, что оно просуществовало дольше многих других центральноевропейских королевств, например Чехии и Венгрии.)
Крепостная зависимость на польских землях была окончательно отменена Кодексом Наполеона. Панщина, утрачивая свой смысл, продержалась еще несколько десятилетий (в Царстве Польском — до 1864 года), а от ее последних рудиментов избавилось правительство свободной Польши в 1930-е. При этом ни панщина, ни крепостная зависимость не сохранились в исторической памяти общества, хотя память о нищете крестьян, об их превращении в поляков или о патриотических воззрениях проследить удается. Скорее всего, это связано с дистанцией во времени, слабостью образовательной системы, замкнутостью сельских социальных структур, а также исторической политикой государства, особенно межвоенной Польши. Социальная мобильность жителей деревень, в основном в межвоенной Польше и в Польской Народной Республике, началась через много лет после прекращения существования данных институтов, а новоиспеченные горожане стремились их забыть. Крепостная зависимость и панщина также никогда не занимали существенного места среди тем польского искусства. Несмотря на то что крестьянской проблематике уделялось все больше внимания в XIX веке, а взаимоотношения между помещичьей усадьбой и деревней становились предметом изображения, свидетельства морального осуждения крепостной зависимости и панщины практически отсутствуют.
Проблему влияния институтов крепостной зависимости и панщины на сегодняшние социальные институты разрешить трудно. Исследователи и публицисты, отмечающие наличие такого влияния («постфольваркового синдрома»), не в состоянии проследить этот процесс в долгосрочной перспективе с помощью аналитических инструментов и, таким образом, воспринимают его как исходный факт, а сами занимаются сбором общедоступного эмпирического материала, который подтвердил бы их тезис. В публичном дискурсе сама тема «постфольваркового синдрома» стала своего рода отмычкой: она позволяет авторам, использующим такую интерпретацию, находить объяснение любым институциональным и социальным проблемам современной Польши. Существует, однако, немало предпосылок, позволяющих считать, что тезис об устойчивости социальной и экономической культуры фольварка не обязательно соответствует действительности, — взять хотя бы исследования общественного доверия в стране, показывающие, что за последние десятилетия оно достигло самых высоких показателей в Центральной и Восточной Европе. Как бы то ни было, спор о том, существует ли фольварковый культурный код, так и не возбудил общественного воображения, и дискуссия в медийной среде понемногу угасла.
Пер. с польск. Александра Суслова
Библиография / References
[Bardach, Leńnodorski, Pietrzak 2014] — Bardach J., Leńnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 2014.
[Bernacki, Maciejewski, Rzegocki 2011] — Bernacki W., Maciejewski J., Rzegocki A. Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku: Antologia. Kraków, 2011.
[Borkowski 1992] — Borkowski J. Historia chłopów polskich. Wrocław, 1992.
[Braudel 1979] — Braudel F. Civilization and Capitalism, 15th—18th Centuries. 3 vols. Berkleley, 1979.
[Bujak 1908] — Bujak F. Z dziejów wsi polskiej. Kraków, 1908.
[Goliński 1984] — Abyśmy o ojczyżnie naszej radzili: antologia publicystyki doby stanisławowskiej / Ed. Z. Goliński. Warszawa, 1984.
[Grabski 1929] — Grabski W. Historia wsi w Polsce. Poznań, 1929.
[Groniowski 1976] — Groniowski K. Uwłaszczenie chłopów w Polsce: Geneza, realizacja, skutki. Warszawa, 1976.
[Grześkowiak-Krwawicz 2000] — Grześkowiak-Krwawicz A. O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego / Red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa, 2000.
[Guzowski 2012] — Guzowski P. Chłop w kajdanach ideologii // Gazeta Wyborcza. 2012. 21 września.
[Hryniewicz 2004] — Hryniewicz J. Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa, 2004.
[Hryniewicz 2007] — Hryniewicz J. Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa, 2007.
[Inglot 1970] — Historia chłopów polskich / Red. S. Inglot. Warszawa, 1970. T. 1.
[Inglot 1972] — Historia chłopów polskich. Okres zaborów / Red. S. Inglot. Warszawa, 1972. T. 2.
[Inglot 1980] — Historia chłopów polskich. Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej / Red. S. Inglot. Warszawa, 1980. T. 3.
[Jaskólski 1990] — Jaskólski M. Kaduceusz polski: Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866—1934. Warszawa; Kraków, 1990.
[Kallas, Krzymkowski 2006] — Kallas M., Krzymkowski M. Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795 — 1918: Wybór źródeł. Warszawa, 2006.
[Kieniewicz 1953] — Kieniewicz S. Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Wrocław, 1953.
[Kizwalter 1999] — Kizwalter T. O nowoczesności narodu. Przypadek Polski. Warszawa, 1999.
[Kizwalter 2014] — Kizwalter T. Kiedy chłop stał się Polakiem. Newsweek Polska. 2014. 6 marca.
[Kochanowicz 1981] — Kochanowicz J. Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Warszawa, 1981.
[Kochanowicz 1992] — Kochanowicz J. Spór o teorię gospodarki chłopskiej: Gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i w historii gospodarczej. Warszawa, 1992.
[Konopczyński 2012] — Konopczyński W. Polscy pisarze polityczni XVIII wieku. Kraków, 2012.
[Korbowicz, Witkowski 2009] — Korbowicz А., Witkowski W. Historia ustroju i prawa polskiego (1772—1918). Wyd. 4. Warszawa, 2009.
[Koryś 2008] — Koryś P. Romantyczny patriotyzm i pozytywistyczny nacjonalizm: Dwa style myślenia o narodzie polskim na przełomie XIX i XX wieku i ich przyszłe konsekwencje // Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski / Red. J. Chumiński, K. Popiński. Wrocław, 2008.
[Kula 1962] — Kula W. Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego: Próba modelu. Warszawa, 1962.
[Leder 2014] — Leder A. Prześniona rewolucja. Warszawa, 2014.
[Limanowski 1911] — Limanowski B. Szermierze wolności. Kraków, 1911.
[Ludwikowski 1982] — Ludwikowski R. Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815—1890. Warszawa, 1982
[Łepkowski 2003] — Łepkowski T. Polska — narodziny nowoczesnego narodu, 1764—1870. Wyd. 2. Poznań, 2003.
[Łuczewski 2012] — Łuczewski M. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń, 2012.
[Makiłłа 2015] — Makiłła D. Historia prawa w Polsce. Warszawa, 2015.
[Małowist 1973] — Małowist M. Wschód a Zachód Europy w XIII—XVI wieku: Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych. Warszawa, 1973.
[Pacholski 2012] — Pacholski A. Jak Polak zhańbił Polaka, czyli niewolnictwo po polsku // Gazeta Wyborcza. 2012. 25 sierpnia.
[Pilot 2012] — Pilot M. Lemingi contra sarmaci / Rozmawia Grzegorz Sroczyński // Gazeta Wyborcza. 2012. 8 sierp.
[Rutkowski 1914] — Rutkowski J. Studia nad połośeniem włościan w Polsce w XVIII wieku. Ekonomista, 1914. T. 1. S. 87—144.
[Rutkowski 1921] — Rutkowski J. Poddaństwo włościan w XVIII wieku w Polsce i w niektórych krajach Europy. Poznań, 1921.
[Rutkowski 1938] — Rutkowski J. Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych. Kraków, 1938. T. I.
[Santorski 2013] — Santorski J. Kapitalizm po polsku: folwark ma się dobrze: Rozmowa // Gazeta Prawna. 2013. 6 czerwca.
[Sosnowska 2004] — Sosnowska A. Zrozumieć zacofanie. Warszawa, 2004.
[Sowa 2011] — Sowa J. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, 2011.
[Szomburg 2008] — Modernizacja Polski: Kody kulturowe i mity / Red. J. Szomburg. Gdańsk, 2008.
[Śliwa 1993] — Śliwa M. Myśl agrarna socjalistów polskich w XIX i XX wieku. Kraków, 1993.
[Świętochowski 1928] — Świętochowski A. Historia chłopów polskich. Poznań, 1928.
[Tarkowski 1994] — Tarkowski J. Socjologia świata polityki. Warszawa, 1984. T. 1—2.
[Topolski 1994] — Topolski J. Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501—1795). Poznań, 1994.
[Topolski 2015] — Topolski J. Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501—1795. Poznań, 2015.
[Wapiński 1997] — Wapiński R. Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Gdańsk, 1997.
[Wasilewski 1986] — Wasilewski J. Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie // Studia Socjologiczne. 1986. № 3. S. 39—56.
[Wasilewski 2012a] — Wasilewski J. Jesteśmy potomkami chłopów / Z Jackiem Wasilewskim rozmawia Marta Duch-Dyngosz // Znak. 2012. № 684. S. 14—17.
[Wasilewski 2012b] — Wasilewski J. Polaki to wieśniaki / Z profesorem Jackiem Wasilewskim rozmawia Dorota Wodecka // Gazeta Wyborcza. 2012. 27 czerwca.
[Wyczański 1960] — Wyczański A. Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500—1580. Warszawa, 1960.
[Wyczański 1977] — Wyczański A. Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Wrocław, 1977.
[Zamojska, Wojdyło, Radomska 1994] — Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów / Red. M. Zamojska, W. Wojdyło, G. Radomski. Poznań, 1994.
[1] Исследование, частью которого стала эта статья, проведено автором на экономическом факультете Варшавского университета благодаря поддержке Национального центра науки (грант 2011/01/B/HS4/04795). Financial suport of Polish Natoinal Science Center through grant no. 2011/01/B/HS4/04795 is gratefully acknowledged.
[2] Речь Посполитая (Республика Двух Народов) — государство, возникшее в результате политической, а затем и реальной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
[3] Экспорт польского зерна, конечно, не удовлетворял потребности Запада, Речь Посполитая была, в экономическом смысле, маргинальным производителем, но наличие зерна из Польши помогало уравновесить спрос и предложение, что обеспечивало сравнительно низкий уровень цен и делало условия для развития Запада более благоприятными.
[4] Шляхетский фольварк был формой сельскохозяйственной организации: он складывался из хозяйства шляхтича и зависимых от него крепостных деревень, расположенных на фольварочной земле. Жители этих деревень находились в юридической зависимости от землевладельца и были обязаны отрабатывать панщину.
[5] С конца XIV века корона в польской политической системе переходила не по наследству, а по выбору шляхетских делегатов. Стремясь склонить на свою сторону шляхту, короли обещали ей все новые привилегии. Таким же образом они раздавали привилегии в обмен на возможность обеспечить финансирование своих планов за счет чрезвычайных налогов (примерно как в Англии).
[6] В Средневековье лан был мерой площади, соответствующей средней территории крестьянского хозяйства. В Речи Посполитой лан составлял 15—25 га.
[7] Восстание происходило в российской части бывшей Речи Посполитой. Одной из главных политических целей восставших было освободить крестьян от крепостной зависимости, чтобы пробудить в них национальное самосознание и подтолкнуть к участию в восстании.
[8] Речь идет о Юлиане Мархлевском, Болеславе Лимановском, Розе Люксембург и др.
[9] Лановая пехота — род войск, существовавший в Речи Посполитой с середины XVII века. Землевладельцам предписывалось выставлять по одному крестьянину с 15 ланов земли для несения военной службы, отсюда и название. Эти крестьяне освобождались от повинностей, проходили обучение и должны были посещать военные сборы, а во времена войн получали оплату как наемные пехотинцы. (Примеч. перев.).
_________________
Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo - Tautos klestėjimo.
|
|







